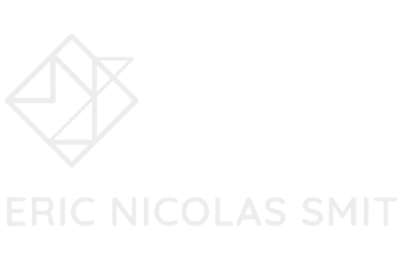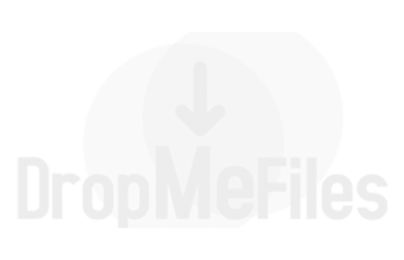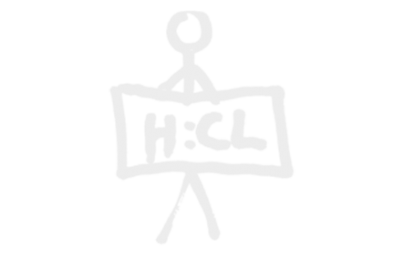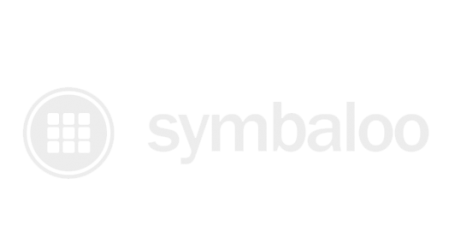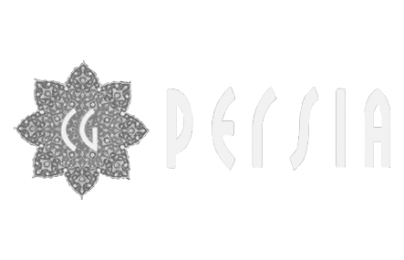КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА
Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.
— Роберт Мэттьюс
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
— Вернер Гейзенберг
Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.
— Сальвадор Дали
МОСКВА. УЧПЕДГИЗ. 1952
УЧЕБНИК ПОЭЗИИ
Над книгой работали семь составителей, среди которых — ведущий сотрудник Института языкознания РАН, руководитель Центра лингвистических исследований мировой поэзии Наталия Азарова; литературовед, переводчик Дмитрий Кузьмин; лингвист, доктор филологических наук Владимир Плунгян и другие.
Учебник «Поэзия» — обширный 886-страничный труд, который формально состоит из двух блоков, следующих друг за другом (порядок чтения блоков — на выбор читателя). Первая часть — теоретическая, вторая — рекомендуемые стихотворения и переводы поэтов XVIII–XXI веков под заголовком «Читаем и размышляем». Такой диапазон авторов/текстов очерчивает хронологические границы русской поэзии. Благодаря тематическому принципу мы можем встретить стоящие рядом стихи Александра Пушкина и Геннадия Гора, баллады Иосифа Бродского и современного московского поэта Андрея Родионова.
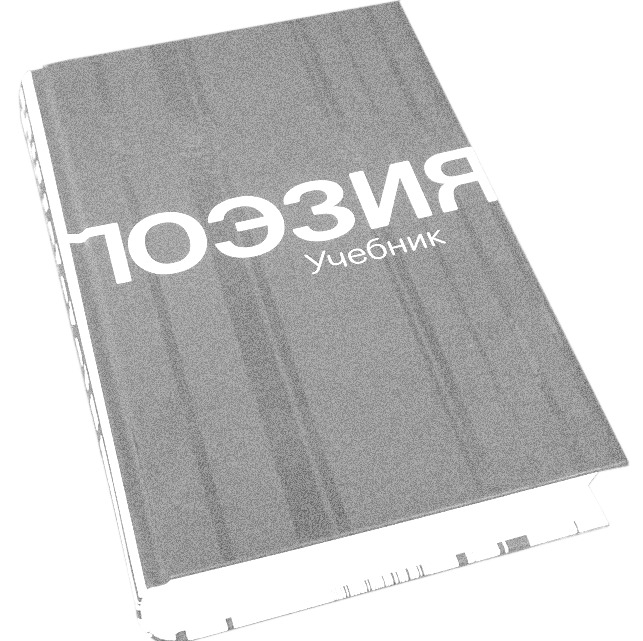
3.1 Тематизация поэзии
У читателя поэзии часто возникает желание объединить какие‑либо поэтические тексты друг с другом, рассмотреть их вместе и понять, чем они схожи и чем различаются. Объединять тексты можно по‑разному – на основании их формального устройства, структуры, используемых приемов и т. д. Часто тексты объединяют по содержательным признакам – именно для этого используется понятие темы . Как именно выделять тему – зависит от нашего восприятия: можно по‑разному определять, о чем именно говорится в стихотворении, что в нем более важно, а что менее.
При этом сами поэты редко пишут стихи на придуманную заранее тему, и даже если стихотворение озаглавлено «Стихи о советском паспорте» или «Стихи о неизвестном солдате», то это вовсе не значит, что эти стихи именно об этом и ни о чем другом.
Если стихи написаны на какую‑либо тему, то читатель поэзии заранее представляет себе, что возможно в этих стихах, а что – невозможно. Таким образом, развитие темы ограничивает содержание стихотворения – такие ограничения обычно связаны с жанром поэтического текста и поэтому важны в те эпохи, когда среди поэтов и их читателей преобладает жанровое мышление – например, в XVIII – начале XIX века (18.1. Жанр и формат).
Некоторые жанры подразумевали ограниченный набор тем и способов их развития. Если поэт писал стихотворное послание, то в нем обязательно развивалась тема дружбы; если элегию – тема утраты, смерти. Для поэзии такого рода было важно, насколько текст удовлетворяет ожиданиям читателя. Ожидания, связанные с поэтической темой, предшествовали восприятию – в отличие от предмета поэтического высказывания, определить который позволяет лишь вдумчивый анализ: даже если мы сразу понимаем, о чем стихотворение, это еще не значит, что мы поняли, что в нем говорится.
Основные, общепринятые поэтические темы возникали не произвольно, а как отражение представлений о том, что важно в жизни человека и общества: например, в XVIII веке одной из важных поэтических тем было прославление монарха (в многочисленных торжественных одах), но уже к первым десятилетиям ХIX века эта тема стала редкой для профессиональной поэзии. Репертуар основных тем менялся от эпохи к эпохе, хотя и не принципиальным образом. На протяжении всей истории поэзии люди считали важным писать стихи об отношениях друг с другом, о богах и героях, природе, ключевых для всех людей периодах и моментах жизни (юности, старении, смерти). Однако в какие‑то эпохи некоторые из этих тем выходили на передний план, в какие‑то – напротив, были почти незаметны.
На рубеже XIX и ХХ веков темы перестают ограничивать содержание стихотворения. Классический репертуар тем перестает связываться с определенными жанрами, и практически любой значимый элемент стихотворения начинает восприниматься читателем (и самим поэтом) как тема. С одной стороны, это позволяет лучше увидеть тематические предпочтения отдельных авторов, в том числе довольно узкие (известно, например, что для Сергея Гандлевского типична тема отвращения к себе, для Юлия Гуголева – тема еды). С другой стороны, это делает выделение темы произвольным – в одном стихотворении может быть множество тем, которые сменяют друг друга и взаимодействуют друг с другом.
Например, в стихотворении Ивана Бунина «Одиночество» «главная» тема вынесена в заглавие, однако в стихотворении возникает несколько побочных тем, к которым подводит эта «главная» тема (тема прощания с возлюбленной, тема природы, деревенской жизни, наконец, тема покупки собаки в финале стихотворения):
* * *
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
<…>
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить. [52]
Разрушение классического репертуара тем позволяет современным читателям поэзии воспринимать многие стихи XVIII–XIX веков по‑новому, игнорировать старые жанровые границы. Например, у современного читателя отсутствует привычка к чтению торжественных похвал монарху, и поэтому, когда он читает поэзию XVIII века, он обращает внимание прежде всего на ту картину мира, что возникает перед глазами поэта (18.1. Жанр и формат).
В современной поэзии существуют следы старых поэтических тем: представление человека о наиболее важных элементах действительности за всю историю человечества изменилось не так уж сильно, и это проявляется на содержательном уровне. По‑прежнему существуют стихи о дружбе, любви и смерти, но эти темы уже не диктуют поэту то, как ему надо писать стихи, а читателю – что ожидать от таких стихов.
Деление на темы сохраняется в прикладной поэзии (например, в рекламной) – это происходит потому, что такая поэзия должна сообщать читателю некоторую информацию, и тематические ограничения позволяют воспринимать эту информацию правильно (18.4. Прикладная и детская поэзия).
При определенной культурной ситуации или внутри отдельных поэтических сообществ поэты могут избегать некоторых тем. Например, в русской поэзии рубежа XVII–XVIII веков отсутствовала тема любви: она считалась признаком народной поэзии – «низкой» культуры, которой не место в высоком «книжном» искусстве. Потом этот запрет стал смягчаться, но на протяжении почти всего XVIII века поэты обращались к этой теме только в стилизациях народных и городских песен или в иронических стихах.
Так, поэт и мыслитель Александр Радищев писал не только «серьезные» произведения (вроде знаменитой оды «Вольность» или «Путешествия из Петербурга в Москву»), но и шутливые песни, где тема любви была в центре внимания:
* * *
Ужасный в сердце ад,
Любовь меня терзает;
Твой взгляд
Для сердца лютой яд,
Веселье исчезает,
Надежда погасает,
Твой взгляд,
Ах, лютой яд… [259]
Появление этой темы в стихотворениях других жанров казалось неприемлемым. Запрет на тему любви в поэзии этого периода был вызван культурными причинами, однако в другие эпохи такой запрет мог быть идеологическим.
Тема любви не поощрялась в советской официальной литературе 1930‑х годов: она считалась признаком старой, «буржуазной» поэзии и культуры, которая должна отойти в прошлое после революции 1917 года. Еще в начале 1930‑х годов поэт Николай Олейников пародировал «плохую» массовую поэзию, когда писал иронические стихи о любви: эти стихи были написаны нарочито неловким и неуклюжим языком, подчеркивавшим неуместность любовной темы:
* * *
Потерял я сон,
Прекратил питание, –
Очень я влюблен
В нежное создание.
То создание сидит
На окне горячем.
Для него мой страстный вид
Ничего не значит. [236]
Запрет был ослаблен в годы войны, когда обращение к этой теме, с точки зрения государства, помогало сплотить людей (особенно ярко это отразилось в поэзии Константина Симонова).
Нечто похожее происходило с темой телесности: человек в официальной советской поэзии был словно лишен тела. Он жил в окружении идеологических символов, которые составляли все его бытие, в то время как описание жизни тела считалось неприемлемым и даже неприличным. Во многом это было ответом на увлечение телесностью и биологизмом в поэзии 1920‑х годов, но затем этот запрет также стал частью советской литературной идеологии. Исключения из этого можно обнаружить лишь в поэзии «фронтового поколения», в которой на время были ослаблены прежние культурные запреты. Например, поэт Семен Гудзенко писал:
…выковыривал ножом
из‑под ногтей я кровь чужую [100]
– и это было бы совершенно немыслимо в поэзии 1930‑х или 1950‑х годов.
Идеологические ограничения вызывали ответную реакцию в неофициальной литературе – например, в деятельности поэтов Лианозовской школы (Генрих Сапгир, Игорь Холин, Ян Сатуновский и другие) сознательно нарушались все тематические запреты официальной советской поэзии. В раннем (рубежа 1950–1960‑х годов) творчестве «лианозовцев» тематический репертуар был ограничен по большей части неприглядным бытом советских рабочих и крестьян. Обращение к таким сторонам действительности было способом противопоставить себя одновременно и официальной поэзии, и классической поэзии, эпоха которой прошла и никогда не вернется.
Ограничения на выбор тем могут возникать и как следствие изменений, происходящих в культуре: например, тема деревенского пейзажа считалась интересной и заслуживающей внимания в первой половине XIX века, но к концу столетия стала считаться признаком слабой и подражательной поэзии (прежде всего у многочисленных эпигонов Николая Некрасова). Затем в первой четверти ХХ века сельский пейзаж пережил яркое возрождение у «новокрестьянских поэтов» (Николай Клюев, Сергей Есенин и другие), описывавших русскую деревню гораздо детальнее и глядевших на нее гораздо пристальнее, чем предшественники. Им удавалось раскрыть в деревенском материале богатый набор смыслов, противопоставляя его гораздо более распространенной в этот период городской лирике. Кроме того, деревенская жизнь служила этим поэтам источником неожиданных слов и образов, своей эффектностью способных посостязаться с неологизмами футуристов (15.3. Неология).
Далее история повторилась: поэты‑подражатели (теперь уже не только Некрасова, но и Есенина) стали слишком часто обращаться к деревенской теме, и авторам, для которых она была важна, приходилось прилагать специальные усилия, чтобы их стихи выглядели свежо и интересно. Так, для современных поэтов, плодотворно работающих с деревенской темой (Николай Байтов, Владимир Кучерявкин), деревенская жизнь предстает как подлинная, не затронутая разрушительным влиянием цивилизации и допускающая непосредственный контакт с мирозданием. В то же время эти поэты смотрят на деревню глазами городского жителя, видят в ней определенный культурный код:
* * *
Мы в поле поднялись. Несутся облака,
За ними небо черное, и звезды, звезды,
И где меж них, ну, где же дышит Бог?
Ах, если б я увидеть это мог!
Жуют коровы, аист с ними.
Дорога сбитая, колеса и копыта,
И мы усталые. Рассказывай и пой,
Грядет торжественный, убийственный прибой,
Торопится, рождаясь в недрах темных звезд,
И судорогой по вселенной пляшет.
Куда ж, скажи, куда помчатся души наши?! [185]
Владимир Кучерявкин
Иногда те или иные темы начинают эксплуатироваться в любительской поэзии, их использование становится признаком «плохих» стихов, и поэтому профессиональные поэты их избегают. Иногда поэты сознательно используют те или иные «запретные» темы – в этом случае они ставят перед собой задачу преодолеть сложившуюся инерцию восприятия и обновить возможности поэтического языка.
Читаем и размышляем 3.1
Сергей Есенин, 1895‑1925
* * *
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
Изба‑старуха челюстью порога
Жует пахучий мякиш тишины.
Осенний холод ласково и кротко
Крадется мглой к овсяному двору;
Сквозь синь стекла желтоволосый отрок
Лучит глаза на галочью игру.
Обняв трубу, сверкает по повети
Зола зеленая из розовой печи.
Кого‑то нет, и тонкогубый ветер
О ком‑то шепчет, сгинувшем в ночи.
Кому‑то пятками уже не мять по рощам
Щербленый лист и золото травы.
Тягучий вздох, ныряя звоном тощим,
Целует клюв нахохленной совы.
Все гуще хмарь, в хлеву покой и дрема,
Дорога белая узорит скользкий ров…
И нежно охает ячменная солома,
Свисая с губ кивающих коров. [126]
1916
Иосиф Бродский, 1940‑1996
* * *
В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне он – в избытке. В чугуне
он варит по субботам чечевицу,
приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту. [48]
6 июня 1965
Андрей Белый, 1880‑1934
ИЗ ОКНА ВАГОНА
Эллису
Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо…
Пролетают – вон там и вон здесь –
Пролетают – за селами села,
Пролетает – за весями весь; –
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: –
Там – убогие стаи избенок,
Там – убогие стаи людей.
Мать Россия! Тебе мои песни, –
О, немая, суровая мать! –
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.
Поезд плачется. Дали родные.
Телеграфная тянется сеть –
Там – в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть. [39]
1908 Суйда
Николай Рубцов, 1936‑1971
* * *
Я забыл,
как лошадь запрягают.
И хочу ее позапрягать,
хоть они неопытных
лягают
и до смерти могут залягать!
Мне не страшно.
Мне уже досталось
от коней – и рыжих, и гнедых.
Знать не знали,
что такое – жалость.
Били в зубы прямо
и в поддых!..
Эх, запряг бы я сейчас кобылку,
и возил бы сено, сколько мог!
А потом
втыкал бы важно
вилку
поросенку жареному
в бок… [267]
1960
Николай Олейников, 1898‑1937
МУХА
Я муху безумно любил!
Давно это было, друзья,
Когда еще молод я был,
Когда еще молод был я.
Бывало, возьмешь микроскоп,
На муху направишь его –
На щечки, на глазки, на лоб,
Потом на себя самого.
И видишь, что я и она,
Что мы дополняем друг друга,
Что тоже в меня влюблена
Моя дорогая подруга.
Кружилась она надо мной,
Стучала и билась в стекло,
Я с ней целовался порой,
И время для нас незаметно текло.
Но годы прошли, и ко мне
Болезни сошлися толпой –
В коленках, ушах и спине
Стреляют одна за другой.
И я уже больше не тот.
И нет моей мухи давно.
Она не жужжит, не поет,
Она не стучится в окно.
Забытые чувства теснятся в груди,
И сердце мне гложет змея,
И нет ничего впереди…
О муха! О птичка моя! [236]
Юлий Гуголев, 1964
* * *
Что к обеду?
Отпираться глупо.
Не готов обед.
Сои нету.
Нету даже супа.
Даже гречи нет.
Я не лучший,
холить тебя, нежить
да готовить сныть.
Ты послушай, –
слушай, моя нежить! –
как мы будем жить,
жить с тобою,
что тут говорить,
жить да горевать, –
жарить сою,
гречу ли варить,
суп разогревать. [99]
Константин Симонов, 1915‑1979
* * *
Над черным носом нашей субмарины
Взошла Венера – странная звезда,
От женских ласк отвыкшие мужчины,
Как женщину, мы ждем ее сюда.
Она, как ты, восходит все позднее,
И, нарушая ход небесных тел,
Другие звезды всходят рядом с нею,
Гораздо ближе, чем бы я хотел.
Они горят трусливо и бесстыже.
Я никогда не буду в их числе,
Пускай они к тебе на небе ближе,
Чем я, тобой забытый на земле.
Я не прощусь с опасностью земною,
Чтоб в мирном небе мерзнуть, как они,
Стань лучше ты падучею звездою,
Ко мне на землю руки протяни.
На небе любят женщину от скуки
И отпускают с миром, не скорбя…
Ты упадешь ко мне в земные руки,
Я не звезда. Я удержу тебя. [284]
1941
Ян Сатуновский, 1913‑1982
* * *
Хорошенькая официанточка,
смеясь,
каблучками стуча,
на завтрак
без всяких карточек
нам вынесла
суп
и чай.
Насупывшись,
но не отчаявшись,
мы вышли.
На дворе
привязывалась гаубица.
Но город – еще не горел.
Он был еще
к этому времени
весь
в окнах,
весь
в крышах домов,
весь
в полном умиротворении,
что длительным счастьем дано. [275]
Сергей Гандлевский, 1952
* * *
Самосуд неожиданной зрелости,
Это зрелище средней руки
Лишено общепризнанной прелести –
Выйти на берег тихой реки,
Рефлектируя в рифму. Молчание
Речь мою караулит давно.
Бархударов, Крючков и компания,
Разве это нам свыше дано!
Есть обычай у русской поэзии
С отвращением бить зеркала
Или прятать кухонное лезвие
В ящик письменного стола.
Дядя в шляпе, испачканной голубем,
Отразился в трофейном трюмо.
Не мори меня творческим голодом,
Так оно получилось само.
Было вроде кораблика, ялика,
Воробья на пустом гамаке.
Это облако? Нет, это яблоко.
Это азбука в женской руке.
Это азбучной нежности навыки,
Скрип уключин по дачным прудам.
Лижет ссадину, просится на руки –
Я тебя никому не отдам!
Стало барщиной, ревностью, мукою,
Расплескался по капле мотив.
Всухомятку мычу и мяукаю,
Пятернями башку обхватив.
Для чего мне досталась в наследие
Чья‑то маска с двусмысленным ртом,
Одноактовой жизни трагедия,
Диалог резонера с шутом?
Для чего, моя музыка зыбкая,
Объясни мне, когда я умру,
Ты сидела с недоброй улыбкою
На одном бесконечном пиру
И морочила сонного отрока,
Скатерть праздничную теребя?
Это яблоко? Нет, это облако.
И пощады не жду от тебя. [71]
1982
Николай Некрасов, 1821‑1878
Из цикла «О погоде»
Кому холодно, кому жарко!
Свечерело. В предместиях дальных,
Где, как черные змеи, летят
Клубы дыма из труб колоссальных,
Где сплошными огнями горят
Красных фабрик громадные стены,
Окаймляя столицу кругом, –
Начинаются мрачные сцены.
Но в предместия мы не пойдем.
Нам зимою приятней столица
Там, где ярко горят фонари,
Где гуляют довольные лица,
Где катаются сами цари.
Надышавшись классической пылью
В Петербурге, паспо́рт мы берем
И чихать уезжаем в Севилью.
Но кто летом толкается в нем,
Тот ему одного пожелает –
Чистоты, чистоты, чистоты!
Грязны улицы, лавки, мосты,
Каждый дом золотухой страдает;
Штукатурка валится – и бьет
Тротуаром идущий народ,
А для едущих есть мостовая,
Не щадящая бедных боков;
Летом взроют ее, починяя,
Да наставят зловонных костров:
Как дорогой бросаются в очи
На зеленом лугу светляки,
Ты заметишь в туманные ночи
На вершине костров огоньки –
Берегись!.. В дополнение, с мая,
Не весьма́‑то чиста и всегда,
От природы отстать не желая,
Зацветает в каналах вода…
(Наша муза парит невысоко,
Но мы пишем не легкий сонет,
Наше дело исчерпать глубоко
Воспеваемый нами предмет.)
Уж давно в тебя летней порою
Не случалося нам заглянуть,
Милый город! где трудной борьбою
Надорвали мы смолоду грудь,
Но того мы еще не забыли,
Что в июле пропитан ты весь
Смесью водки, конюшни и пыли –
Характерная русская смесь.
Но зимой – дышишь вольно; для глаза –
Роскошь! Улицы, зданья, мосты
При волшебном сиянии газа
Получают печать красоты.
Как проворно по хрупкому снегу
Мчится тысячный, кровный рысак!
Даже клячи извозчичьи бегу
Прибавляют теперь. Каждый шаг,
Каждый звук так отчетливо слышен,
Все свежо, все эффектно: зимой,
Словно весь посеребренный, пышен
Петербург самобытной красой!
По каналам, что летом зловонны,
Блещет лед, ожидая коньков,
Серебром отливают колонны,
Орнаменты ворот и мостов;
В серебре лошадиные гривы,
Шапки, бороды, брови людей,
И, как бабочек крылья, красивы
Ореолы вокруг фонарей!
Пусть с какой‑то тоской безотрадной
Месяц с ясного неба глядит
На Неву, что гробницей громадной
В берегах освещенных лежит,
И на шпиль, за угрюмой Невою,
Перед длинной стеной крепостною,
Наводящей унынье и сплин.
Мы не тужим. У русской столицы,
Кроме мрачной Невы и темницы,
Есть довольно и светлых картин.
Невский полон: эстампы и книги,
Бриллианты из окон глядят,
Вновь прибывшие девы из Риги
Неподдельным румянцем блестят.
Всюду люди – шумят, суетятся.
Вот красивая тройка бежит:
«Не хотите ли с нами кататься?» –
Деве бравый усач говорит.
Поглядела, подумала, села.
И другую сманили, – летят!
Полумерзлые девы несмело
На своих кавалеров глядят.
«Ваше имя?» – «Матильда». – «А ваше?»
– «Александра». К Матильде один,
А другой подвигается к Саше.
«Вы модистка?» – «Да, шью в магазин».
– «Эй! пошел хорошенько, Тараска!» –
Город из виду скоро пропал.
Начинается зимняя сказка:
Ветер злился, гудел и стонал,
Франты песню удалую пели,
Кучер громко подтягивал ей,
Кони, фыркая, вихрем летели,
Злой мороз пробирал до костей.
Прискакали в открытое поле.
«Да куда же везете вы нас?
Мы одеты легко, мудрено ли
Простудиться?» – «Приедем сейчас!
Ну, потрогивай! Живо, дружище!»
Снова скачут! Могилы вокруг,
Монументы. «Да это кладбище», –
Шепчет Саша Матильде – и вдруг
Сани набок! Упали девицы.
Повернули назад господа,
И умчали их кони, как птицы.
Девы встали. «Куда ж вы? куда?»
Нет ответа! Несчастные девы
В чистом поле остались одни.
Дикий хохот, лихие напевы
Постепенно умолкли. Они
Огляделись: безлюдно и тихо,
Звезды с ясного неба глядят.
«Мы сегодня потешились лихо!» –
Франты в клубе друзьям говорят…
А театры, балы, маскарады?
Впрочем, здесь и конец, господа,
Мы бы там побывать с вами рады,
Но нас цензор не пустит туда.
До того, что творится в природе,
Дела нашему цензору нет.
«Вы взялися писать о погоде,
Воспевайте же данный предмет!»
– «Но озябли мы, друг наш угрюмый!
Пощади – нам погреться пора!»
– «Вот вам случай – взгляните: над Думой
Показались два красных шара,
В вашей власти наполнить пожаром
Сто страниц – и погреетесь даром!»
Где ж пожар? пешеходы глядят.
Чу! неистовый топот раздался,
И на бочке верхом полицейский солдат,
Медной шапкой блестя, показался.
Вот другой – не поспеешь считать!
Мчатся вихрем красивые тройки.
Осторожней, пожарная рать!
Кони сытые слишком уж бойки.
Вся команда на борзых конях
Через Невский проспект прокатилась
И на окнах аптек, в разноцветных шарах
Вверх ногами на миг отразилась…
Озадаченный люд толковал,
Где пожар и причина какая?
Вдруг еще появился сигнал,
И промчалась команда другая.
Постепенно во многих местах
Небо вспыхнуло заревом красным,
Топот, грохот! Народ впопыхах
Разбежался по улицам разным,
Каждый в свой торопился квартал,
«Не у нас ли горит? – помышляя, –
Бог помилуй!» Огонь не дремал,
Лавки, церкви, дома пожирая.
Семь пожаров случилось в ту ночь,
Но смотреть их нам было невмочь.
В сильный жар да в морозы трескучие
В Петербурге пожарные случаи
Беспрестанны – на днях как‑нибудь
И пожары успеем взглянуть. [225]
Между 1863 и 1865