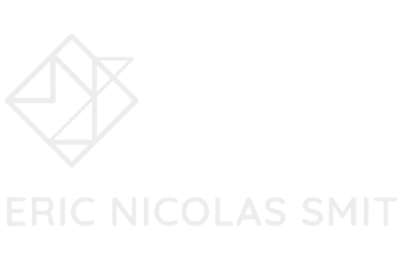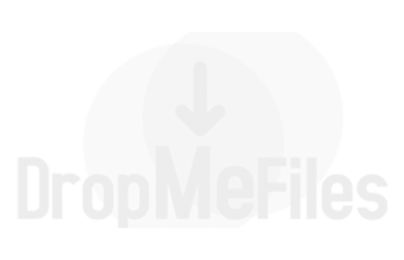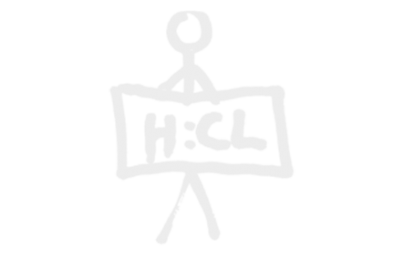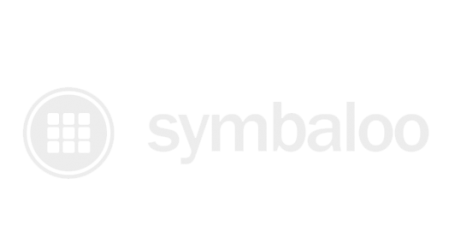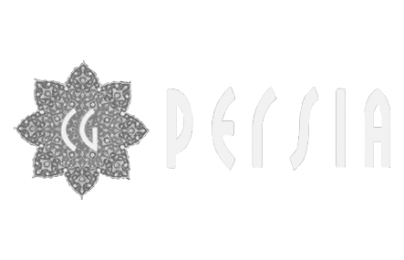КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА
Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.
— Роберт Мэттьюс
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
— Вернер Гейзенберг
Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.
— Сальвадор Дали
МОСКВА. УЧПЕДГИЗ. 1952
УЧЕБНИК ПОЭЗИИ
Над книгой работали семь составителей, среди которых — ведущий сотрудник Института языкознания РАН, руководитель Центра лингвистических исследований мировой поэзии Наталия Азарова; литературовед, переводчик Дмитрий Кузьмин; лингвист, доктор филологических наук Владимир Плунгян и другие.
Учебник «Поэзия» — обширный 886-страничный труд, который формально состоит из двух блоков, следующих друг за другом (порядок чтения блоков — на выбор читателя). Первая часть — теоретическая, вторая — рекомендуемые стихотворения и переводы поэтов XVIII–XXI веков под заголовком «Читаем и размышляем». Такой диапазон авторов/текстов очерчивает хронологические границы русской поэзии. Благодаря тематическому принципу мы можем встретить стоящие рядом стихи Александра Пушкина и Геннадия Гора, баллады Иосифа Бродского и современного московского поэта Андрея Родионова.
2.1. Нарративная и лирическая поэзия
Любой читатель поэзии знает, что в некоторых стихотворениях рассказывается какая‑то история, а в других ничего подобного не происходит. Стихи первого типа называют нарративными (от лат. narratio – ‘рассказ ’), а второго – лирическими. Оба этих типа поэзии существуют с древнейших времен: всегда были стихи, которые рассказывают историю, чаще всего долго и обстоятельно (как поэмы Гомера), а были короткие стихи, которые сосредотачивались на чувствах и ощущениях поэта. Лирических стихов в любой литературе существенно больше, чем нарративных, – как правило, они короче и пишутся чаще.
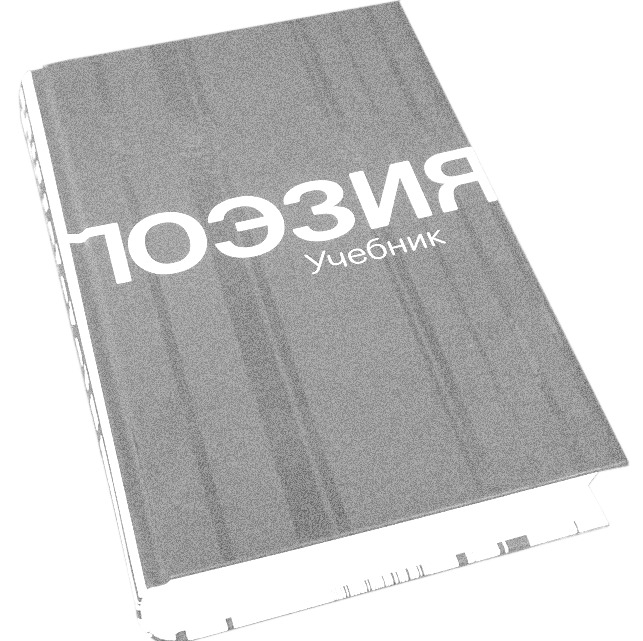
Однако в более ранние эпохи в центре внимания читателей оказываются по большей части именно нарративные произведения («Божественная комедия» Данте, пушкинский «Евгений Онегин»).
В нарративных стихах внимание читателя сосредоточено на том, о чем рассказывает автор, в лирических – на том, как он рассказывает, на самой его речи. Поэтому для лирических стихов особенно важно понятие субъекта – того, кто говорит с нами с помощью поэтического текста и чьими глазами мы видим то, что в этом тексте изображено (4. Кто говорит в поэзии? Поэт и субъект). Именно особенности субъекта создают неповторимый мир лирического стихотворения – хотя какая‑то история может быть рассказана и в нем (элемент нарративности часто присутствует в лирике Николая Некрасова, Александра Блока, Евгения Рейна и многих других русских поэтов).
В нарративной поэзии субъект превращается в рассказчика (или нарратора ): иногда такой рассказчик только излагает какую‑либо историю (как, например, в балладах Василия Жуковского), и мы почти не замечаем его присутствия, иногда делится собственными впечатлениями от излагаемых событий и даже беседует с читателем. Так поступает Пушкин в «Евгении Онегине», когда описывает своего героя:
* * *
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня. [257]
Грань между рассказчиком и субъектом может быть тонкой: например, тогда, когда взгляд рассказчика на происходящее столь же важен, как то, что он рассказывает, он сближается или даже совпадает с субъектом.
Нарративная поэзия может напоминать сюжетную прозу – в ней также присутствуют разворачивающийся сюжет, персонажи, вступающие друг с другом в какие‑то отношения, и т. п. Самое известное нарративное поэтическое произведение в русской поэзии, «Евгений Онегин» Пушкина, недаром носит подзаголовок «роман в стихах», подчеркивающий, что текст развивается по законам прозы. Как в повести или романе, автор нарративного стихотворения может по‑разному поступать с излагаемым сюжетом: двигаться от одного события к другому последовательно или, напротив, «рывками», позволяя читателю самому додумывать то, что остается недосказанным.
В нарративной поэзии часто используются техники, напоминающие техники монтажа в кино (19.7. Поэзия и кино): фрагменты, относящиеся к разным сюжетным линиям, свободно стыкуются друг с другом, изложение сюжета прерывается описаниями пейзажа или характеристиками действующих лиц и т. д.
Так происходит в стихотворении Леонида Шваба:
* * *
Кришна не плачет.
Медведи в саду преследуют дочь англичанина.
Назревает гроза, девочка схоронилась за камнем.
За оградой произрастают петунии.
Чем меньше планета, тем молния долговечней.
На рассвете стучится домой со товарищи англичанин,
Девочка спит на траве, дождь перестал.
Вместо медведей мы видим сборщиков хлопка. [264]
Каждая строка здесь изображает новую ситуацию: читатель как бы видит последовательность кадров из фильма, в каждом из которых что‑то происходит. Можно предположить, что все происходящее в этих строках увидено глазами маленькой девочки, испугавшейся сборщиков хлопка, которые издалека показались ей медведями. Взгляд на события глазами девочки позволяет сделать стихотворение странным, загадочным, причем эта загадочность возникает только за счет описываемых действий – они кажутся остраненными , непохожими на привычные и повседневные.
Пространные нарративные стихотворные произведения могут включать в себя лирические фрагменты, которые обладают определенной самостоятельностью. Нарративное стихотворение в целом лучше поддается разделению на части или фрагменты, в то время как лирическое при любом разбиении утрачивает свою целостность.
Читаем и размышляем 2.11
Александр Блок, 1880‑1921
* * *
Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда… В закатной дали
Были дымные тучи в крови.
И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие – не в лад – Ермака ,
И кричали ура , и шутили они,
И тихонько крестилась рука.
Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.
И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило ура без конца.
Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей все неслось к нам ура,
В грозном клике звучало: пора!
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это – ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?
Эта жалость – ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть – ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей… [45]
1 сентября 1914
Эдуард Багрицкий, 1895–1934
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
Весна еще в намеке
Холодноватых звезд.
На явор кривобокий
Взлетает черный дрозд.
* * *
Фазан взорвался, как фейерверк.
Дробь вырвала хвою. Он
Пернатой кометой рванулся вниз,
В сумятицу вешних трав.
Эрцгерцог вернулся к себе домой.
Разделся. Выпил вина.
И шелковый сеттер у ног его
Расположился, как сфинкс.
Револьвер, которым он был убит
(Системы не вспомнить мне),
В охотничьей лавке еще лежал
Меж спиннингом и ножом.
Грядущий убийца дремал пока,
Голову положив
На юношески твердый кулак
В коричневых волосках.
………………..
В Одессе каштаны оделись в дым,
И море по вечерам,
Хрипя, поворачивалось на оси,
Подобное колесу.
Мое окно выходило в сад,
И в сумерки, сквозь листву,
Синели газовые рожки
Над вывесками пивных.
И вот на этот шипучий свет,
Гремя миллионом крыл,
Летели скворцы, расшибаясь вдрызг
О стекла и провода.
Весна их гнала из‑за черных скал
Бичами морских ветров.
Я вышел…
За мной затворилась дверь…
И ночь, окружив меня
Движением крыльев, цветов и звезд,
Возникла на всех углах.
Еврейские домики я прошел.
Я слышал свирепый храп
Биндюжников, спавших на биндюгах.
И в окнах была видна
Суббота в пурпуровом парике,
Идущая со свечой.
Еврейские домики я прошел.
Я вышел к сиянью рельс.
На трамвайной станции млел фонарь,
Окруженный большой весной.
Мне было только семнадцать лет,
Поэтому эта ночь
Клубилась во мне и дышала мной,
Шагала плечом к плечу.
Я был ее зеркалом, двойником,
Второю вселенной был.
Планеты пронизывали меня
Насквозь, как стакан воды,
И мне казалось, что легкий свет
Сочится из пор, как пот.
Трамвайную станцию я прошел.
За ней невесом, как дым,
Асфальтовый путь улетал, клубясь,
На запад – к морским волнам.
И вдруг я услышал протяжный звук:
Над миром плыла труба,
Изнывая от страсти. И я сказал:
«Вот первые журавли!»
Над пылью, над молодостью моей
Раскатывалась труба,
И звезды шарахались, трепеща,
От взмаха широких крыл.
Еще один крутой поворот –
И море пошло ко мне,
Неся на себе обломки планет
И тени пролетных птиц.
Была такая голубизна,
Такая прозрачность шла,
Что повториться в мире опять
Не может такая ночь.
Она поселилась в каждом кремне
Гнездом голубых лучей;
Она превратила сухой бурьян
В студеные хрустали;
Она постаралась вложить себя
В травинку, в песок, во все –
От самой отдаленной звезды
До бутылки на берегу.
За неводом, у зеленых свай,
Где днем рыбаки сидят,
Я человека увидел вдруг,
Недвижного, как валун.
Он молод был, этот человек,
Он юношей был еще, –
В гимназической шапке с большим гербом,
В тужурке, сшитой на рост.
Я пригляделся:
Мне странен был
Этот человек:
Старчески согнутая спина
И молодое лицо.
Лоб, придавивший собой глаза,
Был не по‑детски груб,
И подбородок торчал вперед,
Сработанный из кремня.
Вот тут я понял, что это он
И есть душа тишины,
Что тяжестью погасших звезд
Согнуты плечи его,
Что, сам не сознавая того,
Он совместил в себе
Крик журавлей и цветенье трав
В последнюю ночь весны.
Вот тут я понял:
Погибнет ночь,
И вместе с ней отпадет
Обломок мира, в котором он
Родился, ходил, дышал.
И только пузырик взовьется вверх,
Взовьется и пропадет.
И снова звезда. И вода рябит.
И парус уходит в сон.
Меж тем подымается рассвет.
И вот, грохоча ведром,
Прошел рыболов и, сев на скалу,
Поплавками истыкал гладь.
Меж тем подымается рассвет.
И вот на кривой сосне
Воздел свою флейту черный дрозд,
Встречая цветенье дня.
А нам что делать?
Мы побрели
На станцию, мимо дач…
Уже дребезжал трамвайный звонок
За поворотом рельс,
И бледной немочью млел фонарь,
Не погашенный поутру.
Итак, все кончено! Два пути!
Два пыльных маршрута в даль!
Два разных трамвая в два конца
Должны нас теперь умчать!
Но низенький юноша с грубым лбом
К солнцу поднял глаза
И вымолвил:
«В грозную эту ночь
Вы были вдвоем со мной.
Миру не выдумать никогда Больше таких ночей…
Это последняя… Вот и все! Прощайте!»
И он ушел.
Тогда, растворив в зеркалах рассвет,
Весь в молниях и звонках,
Пылая лаковой желтизной,
Ко мне подлетел трамвай.
Рево́львер вынут из кобуры,
Школяр обойму вложил.
Из‑за угла, где навес кафе,
Эрцгерцог едет домой.
………………..
Печальные дети, что знали мы,
Когда у больших столов
Врачи, постучав по впалой груди,
«Годен!» – кричали нам…
Печальные дети, что знали мы,
Когда, прошагав весь день
В портянках, потных до черноты,
Мы падали на матрац.
Дремота и та избегала нас.
Уже ни свет ни заря
Врывалась казарменная труба
В отроческий покой.
Недосыпая, недолюбя,
Молодость наша шла.
Я спутника своего искал:
Быть может, он скажет мне,
О чем мечтать и в кого стрелять,
Что думать и говорить?
И вот неожиданно у ларька
Я повстречал его.
Он выпрямился… Военный френч,
Как панцирь, сидел на нем,
Плечи, которые тяжесть звезд
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон;
И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей
И жилами рассечен.
О, где же твой блеск, последняя ночь,
И свист твоего дрозда!
Лужайка – да посредине сапог
У пушечной колеи.
Консервная банка раздроблена́
Прикладом. Зеленый суп
Сочится из дырки.
Бродячий пес Облизывает траву.
Деревни скончались.
Потоптан хлеб.
И вечером – прямо в пыль
Планеты стекают в крови густой
Да смутно трубит горнист.
Дымятся костры у больших дорог.
Солдаты колотят вшей.
Над Францией дым.
Над Пруссией вихрь.
И над Россией туман.
Мы плакали над телами друзей;
Любовь погребали мы;
Погибших товарищей имена
Доселе не сходят с губ.
Их честную память хранят холмы
В обветренных будяках,
Крестьянские лошади мнут полынь,
Проросшую из сердец,
Да изредка выгребает плуг
Пуговицу с орлом…
Но мы – мы живы наверняка!
Осыпался, отболев,
Скарлатинозною шелухой
Мир, окружавший нас.
И вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, – оно теперь
Подвластно нашей руке.
Мы навык воинов приобрели,
Терпенье и меткость глаз,
Уменье хитрить, уменье молчать,
Уменье смотреть в глаза.
Но если, строчки не дописав,
Бессильно падет рука,
И взгляд остановится, и губа
Отвалится к бороде,
И наши товарищи, поплевав
На руки, стащат нас
В клуб, чтоб мы прокисали там
Средь лампочек и цветов, –
Пусть юноша (вузовец, иль поэт,
Иль слесарь – мне все равно)
Придет и встанет на караул,
Не вытирая слезы́. [29]
<1932>
Федор Сваровский, 1971
НА ПЛАНЕТЕ РОГОНДА
1. на планете Рогонда
горит
костер
можно
расслабиться
можно снять скафандры
пожевать буннут
опять же лошади отдохнут
2. под бесконечными звездами
под туманным покровом туманности VX2
проводники
заваривают свой особый чай
который пьянит и отгоняет печаль
выпиваешь
и твоя голова
улетает
в зенит
и одна среди звезд
звенит
и
тает
3. на привале в пустыне
снайпер не должен спать
но белый
теплый песок
напоминает чистые простыни
и каждый бархан – кровать
опираясь подбородком на ствол
человек в кислородной маске
держит голову прямо
в темноте
вспоминает
маму
прошлогодний праздник отцовского клана
обильный стол
блестящий, натертый соком дерева мааххи пол
в доме двоюродного деда
и еще, честно говоря, внучку соседа
4. враг появляется резко
из‑за южных холмов
они выходят большие
прозрачные
как воспоминания
как страхи
из детских снов
в студенистых руках – как бы обрезки труб
из обрезков бежит огонь
вокруг
они распространяют странную сладкую вонь
5. Маарт Каальба
с пробитым боком
остался теперь один
закрывая глаза
он видит космос
и хаотическое столкновение другом с другом
каких‑то абстрактных льдин
лейтенанты все разбежались
сгорели
ушли с головой в песок
обгорелый кусок
шлема
свисает сбоку
щекочет ему висок
под огнем
он прижимается к шее раненого коня
говорит ему: нарчикоде а калохибохи
что значит: лишь ты не предашь меня
думает также:
будь проклят юг
дурацкая эта земля
которой никогда не касался плуг
вдруг
неожиданно
бой стихает
вокруг –
тишина, покой
слюна выступает
на черной морде
он проводит
стирает ее рукой
и говорит животному: ну у меаямувеа
что означает
примерно –
ты это, не бойся, друг [278]
Афанасий Фет, 1820‑1892
* * *
Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя,
Тихая, теплая,
Серебром окаймленная!
Робко, свечу потушив, подхожу я к окну…
Меня не видать, зато сам я все вижу…
Дождусь, непременно дождусь:
Калитка вздрогнет, растворяясь,
Цветы, закачавшись, сильнее запахнут, и долго,
Долго при месяце будет мелькать покрывало. [324]
1842
Сергей Есенин, 1895‑1925
* * *
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя! иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть. [126]
1921
Бахыт Кенжеев, 1950
* * *
От райской музыки и адской простоты,
от гари заводской, от жизни идиотской
к концу апреля вдруг переживаешь ты
припадок нежности и гордости сиротской –
Бог знает, чем гордясь, Бог знает, что любя –
дурное, да свое. Для воронья, для вора,
для равноденствия, поймавшего тебя
и одолевшего, для говора и взора –
дворами бродит тень, оставившая крест,
кричит во сне пастух, ворочается конюх,
и мать‑и‑мачеха, отрада здешних мест,
еще теплеет в холодеющих ладонях.
Ты слышишь: говори. Не спрашивай, о чем.
Виолончельным скручена ключом,
так речь напряжена, надсажена, изъята
из теплого гнезда, из следствий и тревог,
что ей уже не рай, а кровный бег, рывок
потребен, не заплата и расплата –
так калачом булыжным пахнет печь
остывшая, и за оградой сада
ночь, словно пестрый пес, оставленный стеречь
деревьев сумрачных стреноженное стадо… [160]
Лев Оборин, 1987
* * *
Я тебе не винт и не соринка
кровь моя не смазка и не ржа
место мне не жакт и не сорренто
и не острие ножа.
Что ты знаешь обо мне помимо
синих денег у меня в мошне
все ли это что необходимо
для решений обо мне?
Стыдно повторять такое – или
не прошел за этим век
или мы и книг не выносили
из родительских библиотек? [233]
ТАКЖЕ СМ.:
Петр Вяземский (6.2),
Михаил Кузмин (11.2),
Василий Филиппов (7.2.3),
Николай Гумилев (8.3),
Александр Блок (11.5).
1 Дополнительные задания по разбору стихов см. на сайте учебника (poesia.ru)