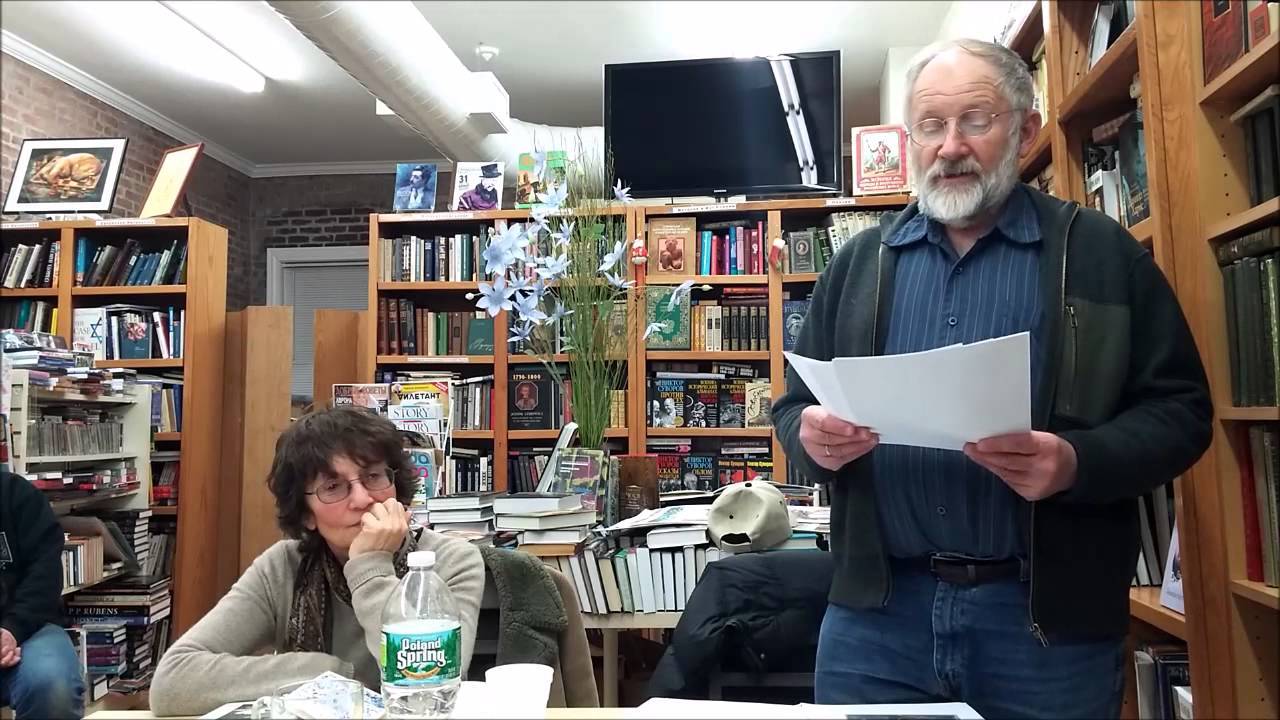КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА
Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.
— Роберт Мэттьюс
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
— Вернер Гейзенберг
Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.
— Сальвадор Дали
Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
Джим Моррисон
ЛЕОПОЛЬД ЭПШТЕЙН
Леопольд Эпштейн (1949, Винница). Эпштейн Леопольд Викторович родился в семье врача и инженера. Выпускник мехмата МГУ (1971). С 1971 по 1987 год жил в Ростове-на-Дону и Новочеркасске (Ростовская область). Работал программистом, научным сотрудником, преподавателем вузов, дворником, кочегаром. В 1987 году эмигрировал в США, работает программистом в Бостоне. Стихи пишет с 1963 года. Сборники Грунт (1993) и Фрагмент (2001) вышли в США.

* * *
Роняет лес багряный свой убор.
Пушкин
Ещё вчера в лесу багряном
В последнем блеске торжества
Поддерживаема туманом
Неслышно падала листва.
Но за ночь осень стала резкой,
Лес обнажился на ветру,
То, что вчера казалось фреской,
Гравюрой сделалось к утру.
Своими голыми ветвями
Деревья чёрные в молчанье
Напоминают, что для нас
Жизнь – как предсмертное желанье,
И для его свершенья – час.
Холодный день подобен прессу:
Он уплотняет красоту
И придаёт пустому лесу
Немыслимую высоту.
Но суть процесса – увяданье.
Не покидай меня, держись,
Моё предсмертное желанье,
Моя единственная жизнь!..
1968, 1975
Реминисценция
Как жизнь обозначила линии тока! Не сыщешь конца, не найдёшь и истока. Жестоко!
...Входи же, снимай пальтецо. Желаешь ли выпить? В наличье – винцо. Ты всё не стареешь, и нет тебе срока...
Я в этой трагедии сбоку-припёку, не первое и не второе лицо. И если в ремарках судьбы разобраться, ягнят, так сказать, отделив от козлят, то мне здесь отводится роль Розенкранца (из второстепенных, которых казнят).
Я – чаша с отравой, утерянный перстень, я – спутанный адрес на тайном письме. Короче – её лебединая песня (а разницу в возрасте держим в уме). Но нет розенкранцев отдельно от пьесы (тюрьма с эйр-кондишн и ложей для прессы, но всё остальное – увы, как в тюрьме). Я – гниль декораций и музыки плесень; ружьё, что без дела висит на стене. Случайный гонец с запоздавшею вестью. Но дело, я знаю, совсем не во мне. И даже героям пока неизвестно продление логики текста вовне. И что я Гекубе, и что мне Гекуба?! (Цитата. Здесь «третье лицо» ни к чему.) Трагедия – в действии. Пей же свой кубок...
Твой текст адресован не мне, а ему... В жестокой борьбе, где нельзя по-иному прорвать обстоятельств стальное кольцо – как мало я значу! Я – флейта, я – омут, я – крыса.
Я – случай.
Я – третье лицо.
Я – тихая фраза для чуткого уха.
Я – кровь на рапире.
Я – третье лицо!!
Трагедия склёпана намертво. Глухо.
...Входи. Не волнуйся. Давай пальтецо...
1976
Зимняя ночь
Отдамся движенью души, её лживому, жгучему бреду,
Покажется мне, что мы снова с тобою в саду...
Засну в электричке, свою остановку проеду,
На чёрной платформе кромешною ночью сойду.
Как поздно! как холодно! как непроглядно – о Боже!
Зловещий перрон – словно в старом кино про войну.
Мне скажут, что здесь километров двенадцать, не больше.
Секунду подумаю. «Надо идти». И – шагну.
Согреюсь. По мышцам прокатятся тёплые волны,
И станет спокойно, как после большого труда.
И так я обрадуюсь этой прогулке невольной,
Как будто мне только её не хватало всегда.
Отдамся движению ног, их надёжному, твёрдому шагу,
Морозу и ветру, ночной молчаливой стране,
И снова почувствую ясность, покой и отвагу,
Которые в каждом упрятаны где-то на дне.
С движеньем сольюсь. Совпаду с безграничным молчаньем.
Исчезнет сумбур суетливого, глупого дня.
И нить моей мысли окажется столь же случайной,
Сколь эта прогулка. И столь же родной для меня.
С мучительной былью сплетётся высокая небыль,
И их расплести никому уже будет невмочь.
А звёздное небо вверху зазвенит, словно невод,
Развешенный кем-то сушиться в морозную ночь.
1977
Низовка
Дует низовка, и серая вена реки
Вздулась до боли. Когда подъезжаешь к Аксаю,
Кажется, будто в лодчонках своих рыбаки
Белые полосы в воду с ладоней бросают.
Дует низовка и треплет прибрежный тростник.
Время замедлилось. Взгляд отвести неохота
И невозможно. Сильнее созвучий тройных
Заворожит бесполезная эта работа.
Дело не в ветре, не в пене на гребнях, но в том,
Что – уничтожить траву непокорную силясь –
Нас от рожденья до смерти влекущий повтор
Ветер творит – с мирозданьем смиряющий синус.
Бьющийся синтаксис лишь повторяет зады
Чьих-то терзаний. А в сущности, что непонятно? –
Чувствует жизнь, что когда-то она из воды
Вышла на сушу и хочет вернуться обратно.
Чувствует жизнь, что у этой венозной волны
С кровью венозною – неоспоримое сходство
И что рептилии так же, как воды, вольны
Снова прийти воевать за свое первородство.
1978
* * *
Не дано мне в жизни никакого
Подлинного крова над собой
Кроме неба – светлого, большого,
В равновесье с ветром и травой.
Вытру пыль. Отдраю пол почище.
До сиянья разотру окно.
Неуютно мне в моём жилище –
Хочется на волю всё равно.
Уходя, беру судьбу с собою –
На руку, как лёгкое пальто.
...Перебелим кухню. И обои
Переклеим. Ну а дальше что?
Разве сделается жизнь иною
От заделки трещин по углам?
Никаким порядком и покоем
Никогда не наслаждаться нам.
Даже мысль нелепа и убога:
Затолкать судьбу свою в сосуд.
Мы не дома. Мы в гостях у Бога.
Здесь нас пирогом не обнесут.
1978
* * *
А. К.
У русской поэзии подлинной –
медленный ритм, затяжной,
Как наши равнины.
Как будто бы едешь и едешь – и всё стороной –
Дорогою длинной.
И осень. И низкие облаки. Сжатый, угрюмый объём.
Медлительность пытки.
И выдохлись кони. И тянется нудный подъём
Тяжелой кибитки.
Мы учимся с вялостью этой смиряться, пока не умрём
В разгаре ученья.
Как много пустого пространства
в отечестве снежном моём,
Как много мученья.
Какой нестерпимый в нём холод,
какой в нём отчаянный зной –
Жесток и бесстрастен.
У русской поэзии подлинной –
медленный ритм, затяжной.
Он нам не подвластен.
1979
* * *
Опять наступят средние века,
И рухнет Рим, и разжиреет ворон.
И выжившие станут привыкать
Смирять гордыню и молиться хором.
В безликой массе, в мрачной глубине
Таиться будет лишь одна идея.
И снова кто-то возомнит, что нет
Ни эллина, ни иудея.
1979
* * *
На всякое мужество может быть найдена должная пытка –
Как в играх, где джокером кроют любого туза –
И с плотью живой и с душевной субстанцией пылкой
Всё сделают, что захотят. Ибо руки сильней, чем глаза.
Едва ли крысиный народ вдохновится примером крылатым,
Едва ли кентавра в наставники выберет чернь.
Но если нам чудом удастся спастись, убежать от расплаты,
Скажи: на кого мы покинем несчастных своих палачей?
1980
* * *
Откликнись, если можешь: где ты?!
Как мне искать тебя, когда
Я попаду на берег Леты,
Чья быстротечная вода
Уносит даже отраженье,
Где вместо взгляда и лица
Увидишь мерное движенье
Густого чёрного свинца?
Ни по лицу, ни по одежде
Друг друга там не узнают.
Подай мне знак, откликнись прежде,
Чем боль моя найдёт приют;
Чем я, средь прочих обречённых,
Пройду, задев тебя рукой –
За этой вечной, этой чёрной,
Незамерзающей рекой.
1980
К Асклепию
Тоскливо ночами и душно, как в склепе,
В той части вселенной, где я проживаю.
Ответствуй, мой друг и целитель Асклепий,
Зачем моя хата у вечности с краю?
Глухой живописец развесил полотна
Сушиться – как простыни. В экую морось!
Уж если утрачено чувство полёта,
То чувство достоинства мало поможет.
Заложены уши, как смоченной ватой,
Туманом. Рассудок – иссушен и выжат.
Быть может, душа моя, бог-врачеватель,
Ты всё объяснишь, растолкуешь, как выждать,
Как выжить? Весельем из звонкого рога
Снабдишь, словно снадобьем? Горечь – нелепей,
Чем страх и отчаянье. Нет – я не к богу
К тебе обращаюсь – а к брату, Асклепий.
Ответь же как брат. Или лучше – не надо,
Раз требует время не слов, а поступка –
Пиявки, меча, прижигания, яда...
Жива ли змея твоя, спутница кубка?
1982
* * *
Но Иисус сказал ему: иди за
Мною и предоставь мёртвым
погребать своих мертвецов.
От Матфея 8, 22.
Пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов.
Оставьте дома ваши, жён, матерей и отцов –
Идите за Мной. И сейчас же к нему из углов
Потёк человеческий сброд,
угадавший чутьём командира.
И Он посмотрел им в глаза,
неулыбчив, серьёзен и строг,
И Он полюбил их за их нищету и порок,
И Он им сказал: Отречёмся от старого мира.
Потом они шли – небольшой, но сплочённый отряд –
По знойной пустыне. И Он говорил им, что яд –
Соблазны мирские,
что меч он принёс и что мир виноват,
Погрязший в грехе. И что дальше пойдёт всё по схеме,
Начертанной Им. Средь голодной, безводной жары
Учил, что недолго таиться и ждать – до поры,
А те, кто сегодня ничто, вознесутся над всеми.
Что дальше – известно. Недаром, в конце-то концов,
Учились на этой истории сто поколений борцов,
Все тысячи тысяч горячих и чистых юнцов,
В которых душа не погибла под бременем жира,
Все те, кто готов без боязни
отречься от старого мира,
Где мёртвые с плачем хоронят своих мертвецов.
1983
* * *
Когда человек исчезает за чёрным забором,
В разорванном космосе не зарастает дыра.
И помнят его темнота проходного двора
И все закоулки промерзшего сквера, в котором
Портвейн он хлебал или, скажем, кормил голубей;
И помнят обои потёртые, стол, табуретка;
И чайник, когда на огонь его ставит соседка,
Вздыхает о нём и не может забыть, хоть убей.
Он снится деревьям – и сон их протяжен и свеж.
Деревья тоскуют о нём, но, привычны к невзгодам,
Они отмеряют опавшей листвой год за годом
И ждут возвращенья его. Просто ждут.
Без особых надежд.
1983
* * *
Жизнь нельзя рассказать,
как нельзя пережить её заново.
То, что прожито нами – навек за стеклянной стеной.
Набираешь ответчик судьбы –
там всё «занято», «занято»,
А судьба между тем равнодушно стоит за спиной.
Всё сложилось как есть.
Ни к чему торопливо домысливать,
Как могла повернуться игра своевольных причуд.
Однозначны пути, а число вариантов бесчисленно.
Словно письма из прошлого, воспоминания лгут.
Жизнь нельзя уломать, объегорить нельзя, убедить её.
Ничего не докажешь – ты трусил и трусишь сейчас.
И никто никогда не полюбит нас так, как родители,
И никто не посмеет так болеть и бояться за нас.
После смерти отца
я не стал ни взрослей, ни достойнее.
Неужели он видит меня через вечную тьму?
Помню лето, жару,
пляж какой-то, каникулы школьные...
Жизнь нельзя объяснить. Слава богу, нельзя, никому!
1985
* * *
Дорогой из Иваново в Москву
В холодную весеннюю годину,
Прижавшись к дребезжащему стеклу,
В себя вбираю Русскую равнину.
Недачные какие-то места,
Неласковые. Сумрачно и сиро.
Всё ёлка, да берёза, да сосна.
Однообразно – даром, что красиво.
Но почему-то сердцу тем теплей,
Чем дольше я не отрываю взора.
Чего смотреть? – сосна, берёза, ель,
Ни круч, ни волн, ни блеска, ни простора.
Снег чёрно-белый, талая вода
Полузамёрзшая. Картина в целом
Ритмическому замыслу верна
И отвечает чьим-то тайным целям,
Как будто кем-то выстроены ясно
Резоны, чтоб для нас обосновать
Позицию: терпеть – и не смиряться,
Сопротивляться – и не бунтовать.
1986
* * *
Судьба мудрей, чем плоский наш расчёт,
Когда с недальновидностью беспечной
Она находит в путанице Млечной
Наш код единственный. А смысл извечный
В реторте у алхимика растёрт
До состояния легчайшей пыли.
Казалось бы, сюжет замысловат
И так не может быть, но во сто крат
Реальней – бред невероятной были,
Чем то, что мы себе вообразили:
Беспомощный и жалкий плагиат.
Судьба творит, как гении в бреду,
С рассудочностью дьявольской и пылкой.
И стало счастьем то, что было пыткой,
А счастье оказалось лишь попыткой
Отсрочить, а не отвести беду.
Ты говоришь: «Иди», – и я иду.
1986
* * *
Читаю Вяземского у себя в котельной,
Идя к его усталости смертельной
От подражаний, шалостей и грёз.
И слух мой поэтический раздельно
Воспринимает, чувствуя всерьёз
И путь его – разомкнутый, но цельный,
И нарастанье боли неподдельной,
И – каждый мне доверенный насос:
И воздухоподсос неугомонный,
И сетевой, и циркуляционный,
И третий поршневой, и дымосос.
Читаю Вяземского у себя в котельной –
Немного убаюкан колыбельной
Родных котлов за тонкою стеной,
Витаю где-то мыслию бесцельной,
Слегка рисуясь пред самим собой
Тем, что и я от жизни канительной
Устал, как он – забытый и больной.
Всё это, вероятно, ложь и поза.
А за окном – семь градусов мороза.
И чувствуется скрытая угроза
Моей судьбе в связи с его судьбой.
Трясётся бойлер, паром трубы грея,
Дрожат, вибрируют – стена и батарея,
И пол, и стол, и ритмы, и слова.
Я не того боюсь, что устарею –
Боюсь, что станет жизнь во мне мертва.
Мысль не нова, но что поделать с нею,
И суть не в том – нова иль не нова.
Читаю Вяземского. Вслушиваюсь. Мне ли
Судить его закат, его рассвет?
«Слух звука ждёт – но звуки онемели,
Движенья ищет взор – движенья нет».
Истории не скажешь: «Извините,
Пересмотрите заново судьбу,
Поэт не умер, он как раз в зените,
В тоске и в грусти – да, но не в гробу.
Не прогрессивен, но зато свободен,
И умудрён, и полн душевных сил».
Но век его прошёл и мой проходит,
А предыдущих – тех и след простыл.
Не мистик я и в холод запредельный
(В ничтожество! – как говорил он дельно)
Готов уйти от здешнего тепла.
Читаю Вяземского у себя в котельной.
Проходит жизнь, а ночь почти прошла.
1986
* * *
Лишиться отечества – что умереть
И в парке загробном гулять беспечально,
Не мучась ни страхом, ни той изначальной
Тоской, ни гордыней, – гулять и смотреть
На тропики цвета, на радугу трав,
На небо, где облачком белым и гладким
Подчёркнута мысль, что земные загадки
Здесь малоуместны. Увы, потеряв
Отечество – переместится не плоть,
Оставив судьбу для витаний бесплотных –
Душа передвинется в ранг безработных
И будет безделием жечь и колоть,
Как острый комок, залетевший под веко.
Да, там хорошо, за забором беды,
Там пена морская смывает следы,
Там дышится легче. А здесь, где от века –
Безумие, злоба, невежество, ложь,
Где с мукой на сердце и дулей в кармане
Достигли мы некой мистической грани,
Здесь – в чёртовом омуте, в тьмутаракани,
Средь мерзости, хамства, бессмысленной дряни –
Здесь прожита жизнь и её не вернёшь.
1987
* * *
Бруклайн. Массачусетс. Канун Рождества.
Зелёная травка, поющие птицы.
Круг лампы настольной, пустые страницы.
И жизнь предъявляет иные права.
Что б ни было, а позади – перевал.
Здесь веруют в Бога, а пуще – в удачу,
Здесь прячут тоску, а безумья не прячут,
Собаки не воют и дети не плачут,
Здесь всё – по-иному. А как же иначе?
Не здесь ты любил, тосковал, пировал.
Бруклайн, Массачусетс. Канун Рождества.
Причудливы стыки, и швы, и изгибы
Сквозящего времени. Значит – спасибо,
Какая бы ни начиналась глава.
Любой поворот – испытание, ибо
Лишь в тождестве духа – залог торжества.
Лишь в тождестве духа – не в жёсткости фразы.
Остаться собой, не страшась перемен.
У времени – сложный рисунок, и фазы
Причудливы. Не раскумекаешь сразу:
Что кара, что – дар, что – даётся в обмен.
Бруклайн, Массачусетс. Канун Рождества.
Попробуем свыкнуться с данностью новой
И не раствориться... Багровый, терновый,
Скрипучий кустарник... Звучащей основой
Струящейся речи останется слово
Младенческой памяти. Бог с ней, с обновой!
С тобою – твой опыт, и боль, и слова.
1987
* * *
Ничто не нарушает тишины.
Как иногда приятно очутиться
В глухом углу непуганной страны,
Где будят только прошлое да птицы.
Прошла ли жизнь – ты спрашиваешь? Да.
Точней, всё то прошло, что жизнью мнилось.
Остались сосны, реки, холода,
Дожди, прогулки да Господня милость.
Благополучным быть не тяжело:
Расслабься, улыбнись, забудь печали.
Любовь и ненависть, добро и зло –
Уже не так контрастны, как вначале.
И жажда истины былую власть
Утратила. Пришла пора такая,
Когда всего важней, чтоб речь лилась
Мелодией, утёсы обтекая.
И дом чужой, и жизнь уже давно
Своей не кажется, да в том ли дело?
Здесь тихо и тепло. Мне всё равно.
Вот – мой предел. И я – хочу предела.
1990
Туман
Над стальной полосой монотонного тусклого льда
Серебрится, сгущаясь, туман океанский, рельефный до дрожи.
Я когда-то читал, что на время – не стоит труда,
От кого-то я, помнится, слышал, что смерть и забвенье похожи.
Как я долго скитался один среди каменных зданий и догм,
Натыкаясь в тумане случайно на мёртвые души,
Позабыв почему-то, что Джеком построенный дом
Никаким ураганам уже не подвластно разрушить.
Как упорный монах, как щенок, что всю мебель изгрыз,
Открывает душа в изумленье, что суть не вмещается в числа.
Ничего нет сравнимого с чудом бесцельной словесной игры,
Из тумана которой зачем-то являются искорки смысла.
Власть над словом не знает пределов и этим сродни
Крайней степени рабства бесправного, вечного плена.
Все мы данники дня – и щенок замирает, уснувший в тени,
И младенец кричать устаёт, и монах подгибает колена.
Так давай же с тобой говорить ни о чём, а точнее – молчать.
Нас нельзя уличить ни в мотивах, ни в заданной цели.
Прилетели в апреле грачи, развели, откормили грачат,
Дождались холодов и туманов – и вновь улетели.
1992
* * *
Держу трёхцветный лист осенний.
Нет сообразней ничего
Равно – для ищущих спасенья
И отвергающих его.
Всё напряженье жизни жадной
Смягчит узор его простой –
Пурпурной, рыжей, шоколадной
Безосновательно парадной
Невыразимой красотой.
Священный атом листопада,
Бесплатный праздник бытия!
И ничего уже не надо –
Все спасены: и ты, и я.
Ни слёз, ни боли, ни карболки,
Ни разведённого моста.
А там зима. И снег на ёлке.
Пространство. Холод. Чистота.
1992
Наставление видящему сны
Можно и нужно у любой самой
страшной фигуры спросить Имя.
Евгений Цветков. «Счастливые сны»
Если увидишь во сне незнакомый сад
На самом верху горы, неизвестно в какой стране,
Смело иди вперёд, не оборачивайся –
Ибо смотреть назад хуже всего во сне.
Знай, что твоя спина надёжно защищена.
Не бойся волчьих зубов, не бойся больших собак.
У чудищ – сколь ни страшны – спрашивай имена.
Вкладывай душу в сон, как деньги – в швейцарский банк.
Если встретишь в саду одноэтажный дом,
Прежде всего смотри: какой из трубы дым.
Ежели дым – бел (не важно, в ночи ли, днём),
Входи в тот дом, не стучась, и верь, что неуязвим.
В доме может вполне оказаться открытый гроб.
Сам в него не ложись, но если попросят, ляг:
Выполнить просьбу во сне – себе принести добро,
А гроб – он попросту гроб, совсем он тебе не враг.
Не смотри во сне на часы, не спрашивай про число,
Не пробуй запомнить путь, ориентируясь по звезде,
Поскольку что бы с тобой там ни произошло,
Время ему – всегда, место ему – везде.
Старайся запоминать всё, что тебе говорят:
Любые слова из сна осмысленны и важны.
А главное – ещё раз! – никогда не смотри назад,
Прижимаясь спиной к стене, доверяй уступам стены.
Но если увидишь вдруг своих покойных друзей,
Весёлых и молодых – какими ты их забыл,
Не расслабляйся, друг, возвращайся из сна скорей,
Попробуй предупредить коварный удар судьбы.
В лодке с ними плывёшь – прыгай, бросай весло,
В башне с ними пируешь – выбрасывайся вовне!
А не сможешь проснуться, что ж, тебе повезло:
Всегда считалось завидным вот так умереть, во сне.
1998
* * *
Сними свою обувь, одежду сложи,
Омойся, входя в золотое жилище –
Наивная вера в загробную жизнь,
Наверное, делает чище.
Блаженны, должно быть, и муж и жена,
И отрок, и отроковица,
Которые знают, что жизнь не должна
Совсем завершиться,
Что кончится разве что тленная плоть,
А дух воспарит на свободе.
Будь к ним милосерд, ниспошли им, Господь,
Чего-нибудь вроде.
Хор ангелов, свет в лучезарном венце,
Спокойные, тихие реки.
А нам – лишь сознание в самом конце:
Проститься навеки.
1998
Спектакль
В полутьме опускается задник,
На холме появляется всадник,
В бутафорский смешной палисадник
Молодая выходит вдова.
Все актёры (они же – герои)
На глазах воплощаются в роли:
Старый граф умирает в Тироле
И служанка заносит дрова.
Я, присутстствуя в зале при этом,
За сюжетом слежу и за светом
И, конечно же, слышу слова.
Эта пьеса мне с детства знакома,
Неизбывная, как глаукома;
Я вчера полистал её дома
И заснул, повернувшись к стене.
И подумал, как только проснулся:
«Всё не так теперь – действия, чувства,
Отношение к правде искусства,
И к любви, и к вине, и к войне».
Режиссёрское видя решенье,
Я приветствую ритм и движенье,
Образ, пластику, воображенье,
(Даже музыку, даже вторженье
Звукозаписи), рощу в огне...
Но какое, скажи, отношенье
Драма эта имеет ко мне?
То ли дело – на телеэкране:
Там обычно не знаешь заране,
Где случится – в Судане, в Иране –
Взрыв, потоп или переворот,
Но зато нам, как правило, ясно,
Что для нас в самом деле опасно,
Что влияет на наше пространство:
Жизнь, работу и банковский счёт.
Как любил я театр когда-то!
Вот что с возрастом плохо: растрата
Бескорыстной прослойки души.
И присутствую я, отмечая,
Как продумана нить звуковая,
Как умна мизансцена иная,
Декорации как хороши...
1999
Русский сюр
Хоть три года скачи, никуда
Не ускачешь из этой страны:
То ли больно объезды длинны,
То ли больно брусчатка тверда.
Три дорожки ведут от крыльца.
Обернёшься – не будет пути.
Хоть по морю плыви, хоть лети
Самолётом – всё нет ей конца.
Лучше пробовать в чём-то другом
Свою силу – зазря прогоришь.
Хоть в Мадрас твой билет, хоть в Париж,
Всё равно ведь сойдёшь в Бологом.
Только льдины плывут по Неве,
Только волки в Тамбове поют,
Только шторки уют создают
Да торгуют купцы на Москве,
Да шумит на Садовом Кольце
Бесконечная лента машин,
Да ещё кинолента шуршит,
Как ямщик об одном бубенце.
Бубенец предвещает пургу,
И ямщик погоняет коней.
Тот, кто выпал из этих саней
Остаётся лежать на снегу.
Не ругай ямщика, не кори:
Ночью в поле – какие огни?
Хоть в Каире, хоть в Риме засни –
Всё равно ж просыпаться в Твери!
Так что лучше подумай стократ
Прежде чем выходить на мороз:
Дело тёмное, скверный прогноз,
Ничего не поделаешь, брат…
Убежишь – тебя барин вернёт,
Если хватится, впрочем. Подчас
Жизнь забавна, как ловкий рассказ,
А точней – как лихой анекдот.
1999
Музыка навеяла
Поменяв на следствие причину,
Перепутав радость и печаль,
Я завёл зелёную машину
И поехал в голубую даль.
И включил я радиоприёмник,
Подсоединённый к проводам,
Чтобы мир просторный и огромный
Между делом в уши попадал.
Уловив движение в эфире
(Что сегодня свойственно вещам),
Он сейчас же о событьях в мире
Завещал мне и заверещал.
Но слова мне не запали в душу,
Не зажгли души моей огнём,
Потому что я его не слушал,
А рулил и думал о своём.
Жизнь моя ползла, переползая
От одной реальности к другой,
Вспоминая сказку про Мазая
Вперемешку с дрязгой бытовой;
Вспоминая умного мужчину,
Статного без сабли и погон,
Видевшего в следствии причину
Будущего прения сторон;
Вспоминая время золотое,
Думая о юности с тоской,
Где когда-то раннею весною
Поплыли туманы над рекой.
Я не слушал радио, однако
Долетела из большой страны
Весть, что взбунтовавшиеся даки
Будут вскоре все истреблены.
Легионы, пыльные от славы,
Возвратятся из родных пустынь,
Отстояв незыблемое право
Каждого народа на латынь.
А затем, суровы и багряны,
Усмехаясь мудро и хитро,
Счетоводы славные нагрянут
И начнут описывать добро.
Все холмы, и трубы, и каналы,
Всех собачек, кошек и котят –
Всё внесут в особые анналы,
А потом в вагонах разместят.
Увезут Италию из Рима
В Африку, а там – на Колыму.
Это трудно, но необходимо:
Всё, что важно, делать самому.
Капитан, обветренный, как скалы,
Протокол составит не спеша:
Пусть теперь довольствуется малым
Некогда бессмертная душа.
Широка земля – да есть граница.
Мил, не мил – а всё равно силком.
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком.
Не взметнётся молодость вторая,
Поступать придётся по уму:
Это крайне важно, повторяю –
Всё, что надо, делать самому.
Я объехал голубые дали
И вернулся к ужину домой,
Пусть не удостоенный медали,
Но зато циничный и живой.
1999
* * *
Объяснить нельзя – никак, вообще –
Объяснить нельзя никому.
Разве пьяница пьёт «зачем»? –
Пьяница пьёт «почему».
Желанья нет открывать глаза,
Впускать под ресницы свет.
Разве покойник знает сам
О том, что его нет?
Можно, конечно, на жизнь пенять,
Да только: при чём она?
Разве собака может понять,
Чем ей мешает луна?
1999
________________________
* * *
Четыре стены и окно в пустоту,
И чёрный архангел на чёрном мосту,
И плащ его рваный и стриженый лоб,
И холод на сердце, и мелкий озноб, —
Как будто судьба запирает врата,
И выбора нет, и проблема снята,
Снята — словно смыта дождём со стекла.
И белый архангел не кажет крыла.
Окно в пустоту и четыре стены.
Есть мера без меры и даль без длины,
И чёрный архангел взывает вотще
В подбитом страданием чёрном плаще.
Взывает архангел и машет рукой,
А мост уплывает куда-то с рекой,
А крылья архангела — обожжены,
И нет у него ни страны, ни жены.
Но это — неправда, но это — навет,
Всё есть у него, лишь у нас его нет,
И мост из-под нас уплывает с рекой
Под свист и под хохот, под рёв бесовской,
И нечисть в цивильном и крылья и крест
Заносит с дисплея в особый реестр,
И тощая ведьма заносит косу,
И дьявол доволен работой АСУ.
Четыре стены и окно в никуда.
Неправда, что правда не стоит труда,
Неправда, что не оставляет следа
На мокром стекле дождевая вода,
Неправда, что всё — понапрасну, когда
И правда — беда, и неправда — беда,
И правда — судьба, и неправда — судьба.
Зовёт, и поёт, и рыдает труба.
* * *
Все дороги ведут куда-то,
Лишь одна перекрыта — в Рим.
Не пойдёшь по семидесятой —
Будет сто девяносто прим.
Спит — от Бреста до Уэлена,
Необъятна и широка,
Как по щучьему по веленью,
По хотению дурака.
Повезут куда-то в теплушке
Поразмыслить о пустяках:
Все ли ушки у них на макушке,
Все ли взятки у них на руках?
Ах, как сладко, как славно ей спится!
Как сама собою горда
Дорогая моя столица,
Золотая моя Орда.
И сквозь щель меж досок вагона
Разглядишь, занозив щеку,
Необъятных пространств зелёных
Вдохновляющую тоску.
Вдалеке от алчного Рима
Заклубится душа твоя,
Словно струйка тёплого дыма
От проехавшего жилья.
Клостернойбург-Кирлинг
В игрушечном австрийском городке,
Где умер Кафка, где к воскресной мессе
Стекаются солидные машины
Умеренно радушных горожан,
Где по холмам опрятные коттеджи
Вещают о покое и достатке,
Как будто бы заложенном природой,
В Аркадии на бюргерский манер,
Где больше аккуратности, чем вкуса,
И вдохновенья меньше, чем ума, —
А воздух всё же полон красотою,
В богатом пригороде пышной Вены,
Построенном, наверное, нарочно,
Чтоб дать покой глазам и отдых сердцу,
Чтоб дать уму и чувству передышку, —
Мы здесь живём сейчас. Живём и смотрим
На красные октябрьские фонтаны
Лоз виноградных, на цветную гамму
Лесов, домов, холмов, автомобилей,
Мы слушаем старинные органы
Суровых храмов, устремлённых к небу
Готическими страстными зубцами,
Мы разбираем странные названья,
Внимательной козой глядим в афиши.
Воскликнуть бы: «Остановись, мгновенье!» —
Но тайная, неведомая горечь
С чеканным привкусом немецкой речи
Щекочет горло и полощет щёки.
Где наша жизнь сегодня? Словно шуба,
Что скорняком взята в перелицовку,
Она - расчленена, она — в работе.
Мы ждём, пока её сошьют по новой —
В игрушечном австрийском городке,
Где умер Кафка.
* * *
Листья уже погибли, но в ягодах красных ветка.
Память уже слабеет, но вдруг озаряет сладко.
Любые порывы - реже, но радостней то, что редко, —
Особенная удача, особенная загадка.
Когда поутру морозно, уже протестует тело.
Но если расправить плечи — согреешься бесшабашно.
Дело не в том, что поздно,
а в том, что не в этом дело.
Дело не в том, что страшно,
а в том, что уже не страшно.
АБСТРАКЦИЯ № 719
Пространство не знает, чем кончит время.
Но время зато, легко забегая вперёд,
Отлично знает, что произойдёт с пространством,
И с едва-едва прикрытым злорадством
Именно этого оно и ждёт.
Левая рука Бога, понаслышке зная о правой,
Прикрывает от взгляда грешников, по старой своей привычке.
Впрочем, иные думают, что в этом замешан Дьявол
(Говорят, его в среду видели в сормовской электричке).
Ввиду небывалых паводков в степях Золотой Орды
Посевы побила засуха, но, несмотря на это,
Все основные фракции Сарайского горсовета
(Пардон, Сарайской гордумы) неуступчивы и тверды
В отрицательном отношении к безответственным планам НАТО.
Трупы гниют во рвах у больших дорог.
И время, которому что-то уже вдомек,
С утра молчит, а вечером прячется виновато.
Пространство наивно думает, что у времени нет предела.
Странно писать по-русски, сидя в кюбикле, в городе Бостон (США).
Если встать и прислониться к стене, можно почувствовать, как душа
Вытекает, капля по капле, из живого тела.
* * *
В городе Губбио мне не спалось. За окном взвывали
Мотороллеры. Слышались крики. Казалось, что итальянцы
Отнюдь не потомки Рима, а нация сумасшедших.
И ленивый, капризный дождь, то усиливаясь, то слабея,
Не убаюкивал, а нагнетал тревогу.
Я вышел в шесть. На площади Сорока Убиенных
Три усатых дворника мели и пели.
Мне казалось, такое возможно лишь в оперетте.
Я стоял у подножия города. Утро было
Нарочито пасмурным. Холмы укрывались тёмным:
То ли тучами, то ли совсем уж густым туманом.
Город Губбио передо мной карабкался вверх по склону
Туда, где царил надо всем массивный Большой Палаццо.
Было холодно, пахло дождём.
Я стал подниматься
По старинным улочкам, в это время почти безлюдным,
Где дома прижимались друг к другу, как люди в советском трамвае.
После этих ущелий пятачки площадей казались
Непомерно просторными. У церквушек безгрешно спали
Потрёпанные фиаты, как набегавшиеся дворняги.
Когда я дошёл до площади перед Большим Палаццо
И увидел сверху улицы, крыши, башни,
Я почувствовал радость, наверное - чуть смешную,
Мне казалось, что я стою здесь как первопроходец,
Открыватель новых ландшафтов, и что до меня смертный
Не видел такой картины: город Губбио ранним утром.
От собора одна из улочек резко взмывала кверху
И вела к стене, а потом, вдоль стены, к городским воротам,
За которыми превращалась уже в дорогу
С указателем на Базилику Сант-Убальдо.
Я покинул город и пошёл по дороге, ведущей к храму,
Между белых камней, между жёлтых кустов, между красных маков,
И когда, на изгибе её, мне открылся город,
Он предстал предо мной в перевёрнутой перспективе.
А дорожка вела всё вверх и вверх, сквозь сбивы дыханья,
И уже открывался взгляду не город, а вся целиком долина,
И манила взгляд, и лежала, как на ладони.
Окрылённый, спешил я наверх, движим надеждой
На новое расширение видимого пространства,
Но воздух вокруг постепенно густел, становился гуще,
И я увидел, что куртка моя покрылась
Мелкими каплями. Я вошёл в тот туман, который
Был виден снизу. Или в облако. Кроме ближайших сосен
Уже ничего я не мог различить — и повернул обратно,
Не совершив восхожденья к Базилике Сант-Убальдо.
Спускаясь, я думал, что этот подъём подобен
Человеческой жизни, где, поднимаясь всё выше,
Различаем внизу — то, что прежде вверху парило,
А потом туман поглощает нас без остатка.
ОЗЕРО ЛОСИНАЯ ГОЛОВА
В одну и ту же реку не войдёшь
Два раза. Оказалось справедливым —
Для озера. Темно. Костровый дым
Мешается с дождём.
Я слышал, что
Все клетки организма за семь лет
Сменяются.
Всемилостивый Бог
Почти без гнева отвращает взор
Всепонимающий. Спасибо и на том.
Кричит сова — не часто, но зато
Увесисто: «Вот проживёшь с моё,
Тогда и потолкуем, человек».
И время искривлённое ползёт
По плоской карте с жилками дорог —
Туда, наверх, на север, на Квебек.
* * *
Задним умом каждый из нас силён.
История, география — всюду одна подлянка.
Ткнёшься в память: остров — ещё Цейлон,
Остров ещё Цейлон, а вот страна — Шри Ланка.
Встанешь, почешешь потылицу, ну — дела:
Куда девались колонии — вся их масса?
Кто может сказать уверенно: чем была
(или — было) когда-то Буркина Фасо?
Облик мира меняется. Имена
Несутся вскачь, как будёновцы за командиром в бурке.
Та страна, в которой мы выросли — не страна.
Область ещё Ленинградская, а контора — в Санкт-Петербурге.
Оторопь — ну не оторопь, но страх берёт —
Столько в схеме метро перемен напрасных:
Стоит, понурившись, Лермонтов возле «Красных ворот» —
Парадоксальная жертва паденья красных.
Тысячелетье кончилось. Но печаль
Остаётся. И так настояна, что можно язык запачкать.
Где он, по сорок копеек, цейлонский чай
В плотных таких, кубических, жёлтых пачках?
МЁРТВАЯ МЫШЬ НА ФЕРМЕ РОБЕРТА ФРОСТА
Вначала я решил пройти по дорожке
Вокруг лужайки и через лес, а там уж -
И в дом зайти. После недавних дождей
Луговые цветы сияли и благоухали.
Я перешёл по мостику через ручей,
Вспоминая те немногие строки Фроста,
Которые знаю. Я подумал вполне банально:
«Всё здесь дышит поэзией». Банальность мысли
Всё же лучше, чем вычурность. Потом я увидел
На земле нечто серое с серебристым
Отливом. Это было очень красиво.
Я сначала подумал о кусочке старого корня,
Но, нагнувшись, понял, что передо мной — трупик
Крупной мыши. Хорошо, что я не успел взяться
За него рукой. Перевернув мышку
Носком сандалии, я увидел
Признаки начинающегося разложения —
И пошёл к дому, почему-то думая,
Что в мире нет ничего важнее правды.
Наверное, это стихи уже начинались.
В доме пол был выкрашен красной краской,
И это напомнило мне Россию,
Дощатые полы нашего детства
И запахи, которых уже никогда не будет.
Всё остальное, впрочем, относилось к другой жизни.
Я узнал, что из шести детей Фроста
Он пережил четверых, причём
Его старшего сына унесла холера,
А младший покончил самоубийством.
Из двух остававшихся в живых дочерей
Одна находилась в доме для умалишённых.
Сам Фрост был удивительно светлым человеком,
Спокойным, добрым и постоянным,
Без надрыва, обязательного для поэтов.
Он жил девять лет в глухом захолустье, здесь, на ферме,
Разводил кур и продавал яйца,
И писал стихи, лишённые демонизма,
Ни на что не сетуя и ни к кому не взывая.
Я позавидовал — не Фросту, но самому себе,
Каким я был бы, не будь я такой, как есть.
* * *
Часа через полтора после Большого Взрыва
Вселенная вся трещала, затоплена жарким светом.
Красиво росла, наверное, в темноте золотая рыба —
Обидно, что некому было понаблюдать за этим.
Впрочем, кто его знает. Интеллектуальных кружев
Тем и приятен шорох, что дразнит воображенье:
Инфузории трудно представить себя снаружи
Под линзами микроскопа. И мы ведь тоже уже не
Способны проникнуть взором за стенки родимой капли —
Какая там нынче теория про преломленье света? —
Да и не очень хочется. Надо дожить, не так ли,
До окончанья суток, до окончанья лета,
До окончанья года, до окончанья... Что нам
До пустых фантазий, традицией не умытых,
Не принадлежащим ни к цеху теологов, ни — учёных,
Честным налогоплательщикам, тореадорам быта?
Какое нам дело, в сущности, сидит ли там кто, склонённый
Над микроскопом, или ушёл, устав от тоски стеклянной —
В оранжевые сады с подругой своей зелёной?
И до нас ли ему? — с нашей жалкой гравитационной
(на вечный холод нас обрекающей) постоянной!
11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
Мандат Неба не может быть вечным
Сун Ят-Сен
Эта прекрасная, благословенная, эта обречённая страна!
Она погружалась неспешно в золотую осень,
Когда они вдруг бабахнули. Я как раз
Ехал на похороны интеллигентнейшего старика,
Возможность общения с которым по глупости упустил.
Эта страна, где собаки рвутся с поводка навстречу прохожему
Не для того, чтобы укусить его, но чтоб облизать,
Где не хмурый взгляд, а приветливая улыбка
Считается средством защиты при встрече на тёмной улице
С подозрительным человеком, —
Разве могла она предвидеть такое? —
Со всеми своими спецслужбами и авианосцами,
С капризными сверхсовременными бомбардировщиками,
Которые в особых кондиционированных ангарах
Подобны орхидеям в оранжереях...
Погребальную службу вёл не похоронный раввин
Из Stanetsky Chapel, толстощёкий и равнодушный,
С лицемерно-возвышенным выраженьем лица,
А другой — красивый в своём старении,
С умными глазами и пальцами пианиста.
Он почти не говорил обычных пошлостей,
Сладковатых, как запах наркоза при операции,
Но я видел, что присутствующим трудно его слушать,
Потому что все уже знали и про третий самолёт тоже,
Тот, который плюхнулся на Пентагон.
Господи Боже мой, какая была погода,
Какое ласковое сияло солнышко в чистом небе!
И я пошёл пешком через Brookline Summit,
Потому что мне нужно было заказать украинскую визу
В туристическом агентстве на улице Commonwealth,
Где пожилая армянка плакала и говорила: «Это война! Война!» —
То, что повторил Буш десятью днями позже.
А когда я вышел, коренастый загорелый мужик,
Направлявшийся с ящиком инструментов к грузовичку, сказал мне:
«I cannot believe this. I really cannot. Can you?»
Я ответил «No, I cannot», хоть и подумал «Yes, I can».
Прошло три месяца. У любого знанья,
Особенно если оно не связано с чем-то уж очень личным,
Эмоциональная составляющая со временем убывает.
Мы просто знаем теперь о мире нечто, чего не знал
Интеллигентнейший старичок, чьи похороны совпали
По времени с этим событием. Вот и всё, если разобраться.
Где-то далеко, где уже утро, когда у нас вечер,
Б-52 бомбят пещеры.
Вроде бы мы побеждаем. Большой кровью —
Но не своей. Ликовать нет никакой охоты.
Все великие страны обречены. История учит
Не удивляться. Ничто так не раздражает
Человека, как пониманье, что там, куда его не подпустят,
Есть висячий сад, где гуляет Семирамида.
Или дворцы Кордовы, или Запретный Город.
А что нам делать, чем он поможет нам, прошлый опыт?
Всё остаётся по-прежнему. Только некая неуклюжесть
Появилась в движении времени. Как будто оно боится
Зацепиться за что-то, споткнуться, уронить очки или порвать одежду.
И жизнь звучит порой неестественно, как перевод с английского,
Выполненый кем-то — освоившим бытовую лексику,
Но не сумевшим осилить тонкостей языка.
В самом деле, такая хрупкая вещь, как Мандат Неба, —
Может ли она действительно оказаться вечной?..
* * *
Язык изменился. Желая сказать «Прощай»,
Женщина пишет «Пока». А мгновенная наша почта,
Отменившая почерк, скрывает то, что
При печатании у неё подрагивала рука.
Слеза, век назад упавшая бы невзначай
На бумагу, ввиду электронной связи переходит в точку
На экране, пульсирующую слегка.
Инструменты, в конечном итоге, и создают культуру.
Носитель текста влияет на качества языка.
По мере моего превращения из мальчика в старика
Поршневая авторучка перешла в компьютерную клавиатуру.
Получатель сообщения, в башке у которого подобием нечёткого островка
Сохранилась геометрия Лобачевского
(что не так уж существенно), —
Озирает стенку от пола до потолка
И стирает письмо из памяти. Вероятно, сдуру.
Неподвижно стоящие в небе плотные облака
Закрывают удалённую точку, в которую две прямые
Без эмоций сходятся - в постэвклидовом, стерильном мире,
Где жизнь, если она существует, иная наверняка.
СЧИТАЛОЧКА
В пятизвёздочном отеле
На одном крыльце сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Министр, сенатор,
Кровавый диктатор,
Сапожник, портной,
Душевнобольной,
Наркоделец
И просто подлец.
Вышел месяц из тумана,
Зачитал им из Корана:
«Буду резать, буду бить,
Чёрной нефтью ворожить.
Честью надо дорожить».
За сараем, у овина,
Сутенёр поймал равина,
Обменял на трёх попов.
Кто ты будешь таков?
Шёл седан модели бумер,
В том седане кто-то умер,
И патологоанатом
Оказался виноватым.
Раз, два, три, четыре, пять —
Трудно смерти избежать:
Сколь верёвочка ни вейся,
Сколь на Бога ни надейся,
Где ты тачку ни паркуй,
Хочешь жни, а хочешь куй —
Всё равно получишь тьму.
Почему? — Да потому.