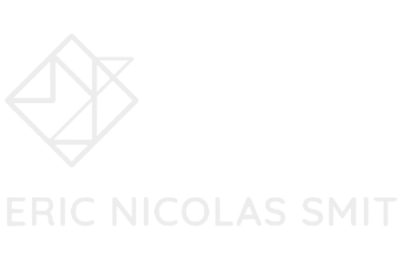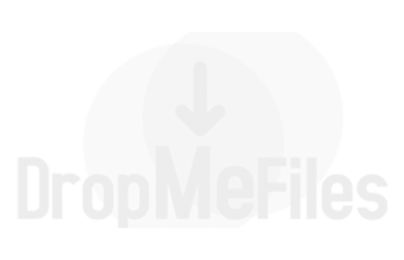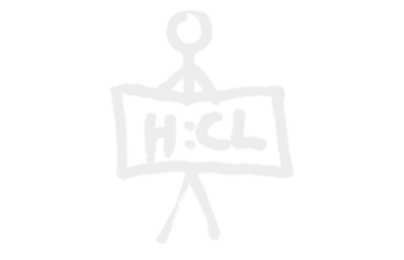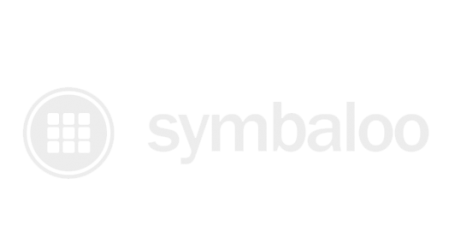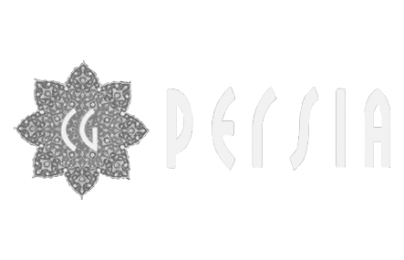КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА
Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.
— Роберт Мэттьюс
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
— Вернер Гейзенберг
Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.
— Сальвадор Дали
малая проза
В довоенные времена жил один старый больной поэт, которого совершенно забыли и по настоянию которого, как я где-то прочел, всем посетителям должны были говорить, будто его нет дома. Время от времени жена — из жалости к нему — звонила в дверь.
Эмиль Мишель Чоран
ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Леонид Николаевич Андреев — выдающийся русский писатель. Родился 21 августа 1871 года в Орле в семье землемера, который (по семейным преданиям) был внебрачным сыном помещика. Мать тоже была из знатного рода, поэтому можно утверждать, что явившийся в этот мир человек был аристократом как по духу, так и по крови.
В 1882 году его отдали в орловскую гимназию, в которой Леонид, по собственному признанию, «учился скверно». Зато много читал: Жюля Верна, Эдгара По, Чарльза Диккенса, Дмитрия Ивановича Писарева, Льва Николаевича Толстого, Эдуарда Гартмана, Артура Шопенгауэра. Последний оказал на мировоззрение будущего писателя особенно сильное влияние: шопенгауэровские мотивы пронизывают многие его произведения.
В 1889 году юноша тяжело переживает потерю отца. В этом же году его поджидает еще одно испытание — тяжелейший душевный кризис из-за несчастной любви. Психика впечатлительного молодого человека не выдержала, и он попытался даже покончить с собой: чтобы испытать судьбу, лег под поезд между рельсов.
К счастью, все обошлось, и отечественная литература обогатилась еще одним великим именем.
В 1891 году, окончив гимназию, Леонид Андреев поступил на юридический факультет Петербургского университета, откуда в 1893 году был отчислен за неуплату. Ему удалось перевестись в Московский университет, за обучение в котором плату внесло Общество пособия нуждающимся. В это же время Андреев начинает печататься: в 1892 в журнале «Звезда» выходит его рассказ «В холоде и золоте», повествующий о голодном студенте. Однако жизненные неурядицы снова доводят начинающего писателя до самоубийства, но попытка опять неудачна. (Еще раз он испытает судьбу в 1894 году. И вновь остается жив.)
Все это время бедный студент влачит полуголодное существование, живет частными уроками, рисует портреты на заказ. Вдобавок, в 1895 году Леонид Андреев попадает под полицейский надзор за участие в делах Орловского студенческого землячества в Москве, так как деятельность подобных организаций была под запретом.
Тем не менее, он продолжает печататься в «Орловском вестнике». А в 1896 году он знакомится с будущей женой — Александрой Михайловной Велигорской.
В 1897 году Леонид Андреев окончил университет кандидатом права. Он начал служить помощником присяжного поверенного, выступая в суде в качестве защитника. Может быть, из своей практики он и вынес сюжет произведения, которое считается началом его литературной карьеры: 5 апреля 1898 года в газете «Курьер» (в которой в ближайшие годы будут также публиковаться — под псевдонимами Джеймс Линч и Л.-ев — фельетоны Андреева) выходит рассказ «Баргамот и Гараська». Дебют этот не остался незамеченным — первый рассказ Андреева был одобрен М. Горьким, получил высокую оценку тогдашних влиятельных критиков. Окрыленный успехом, начинающий писатель ощутил в себе необыкновенный прилив творческой энергии. С 1898 по 1904 год он написал свыше пятидесяти рассказов, а в 1901 году издательство «Знание» выпустило одно за другим восемь изданий первого тома его сочинений. Перед молодым писателем, быстро снискавшим у своего поколения репутацию «властителя дум», широко распахнулись двери редакций лучших журналов, его талант признали Толстой, Чехов, Короленко, не говоря уже о Горьком, с которым у него завязались тесные дружеские отношения (переросшие со временем в «дружбу-вражду» и завершившиеся разрывом).
В 1900 году Горький ввел его молодого писателя в литературный кружок «Среда». Вот как сам Горький описывает встречу с Леонидом: «Одетый в старенькое пальто-тулупчик, в мохнатой бараньей шапке набекрень, он напоминал молодого актера украинской труппы. Красивое лицо его мне показалось малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, — точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неизменно веселый человек, способный жить посмеиваясь над невзгодами бытия».
Горький привлек Андреева к работе в «Журнале для всех» и литературно-политическом журнале «Жизнь». Но из-за этой работы (а также сбора денег для нелегальных студенческих касс) писатель вновь попал в поле зрения полиции. И он сам, и его произведения широко обсуждались литературными критиками. Розанов, например, писал: «Господин Арцыбашев и господа Леонид Андреев и Максим Горький сорвали покров фантазии с действительности и показали ее, как она есть».
10 января 1902 года в газете «Курьер» вышел рассказ «Бездна», всколыхнувший читающую публику. В нем человек представлен рабом низменных, животных инстинктов. Вокруг этого произведения Л. Андреева сразу развернулась широкая полемика, характер которой носил уже не литературоведческий, а, скорее, философский характер. (Позже писатель даже замыслил «Антибездну», где хотел изобразить лучшие стороны человека, но так и не осуществил задуманное.)
После женитьбы на Александре Михайловне Велигорской 10 февраля 1902 года начался самый спокойный и счастливый период в жизни Андреева, продолжавшийся, однако, недолго. В январе 1903 года его избрали членом Общества любителей российской словесности при Московском университете. Он продолжил литературную деятельность, причем теперь в его творчестве появлялось все больше бунтарских мотивов. В январе 1904 года в «Курьере» был опубликован рассказ «Нет прощения», направленный против агентов царской охранки. Из-за него газета была закрыта.
Важным событием — не только литературным, но и общественным — стала антивоенная повесть «Красный смех». Писатель с восторгом приветствует первую русскую революцию, пытается активно содействовать ей: работает в большевистской газете «Борьба», участвует в секретном совещании финской Красной Гвардии. Он снова вступает в конфликт с властями, и в феврале 1905 года за предоставление квартиры для заседаний ЦК РСДРП его заключают в одиночную камеру. Благодаря залогу, внесенному Саввой Морозовым, ему удается выйти из тюрьмы. Несмотря ни на что, Андреев не прекращает революционную деятельность: в июле 1905 года он вместе с Горьким выступает на литературно-музыкальном вечере, сбор от которого идет в пользу Петербургского комитета РСДРП и семей бастующих рабочих Путиловского завода. От преследований властей теперь ему приходится скрываться за границей: в конце 1905 года писатель выезжает в Германию.
Там он пережил одну из самых страшных трагедий своей жизни — смерть любимой супруги при рождении второго сына. В это время он работал над пьесой «Жизнь человека», о которой впоследствии написал Вере Фигнер: «за Ваш отзыв о «Жизни человека» спасибо. Вещь эта очень мне дорога; а уже теперь я вижу, что ее не поймут. И это очень больно обижает меня, не как автора (самолюбия у меня нету), а как «Человека». Ведь эта вещь была последней мыслью, последним чувством и гордостью моей жены — и когда разбирают ее холодно, бранят, то мне чувствуется в этом какое-то огромное оскорбление. Конечно, какое дело критикам до того, что «жена человека» умерла, — но мне больно. Вчера и сегодня пьеса ставится в Спб., и мне тошно об этом подумать». В декабре 1907 года Л. Андреев встретился с М. Горьким на Капри, а в мае 1908-го, кое-как оправившись от горя, вернулся в Россию.
Он продолжает содействовать революции: поддерживает нелегальный фонд узников Шлиссельбургской крепости, укрывает революционеров в своем доме.
Писатель работает редактором в альманахе «Шиповник» и сборнике «Знание». Приглашает в «Знание» А. Блока, которого высоко ценит. Блок, в свою очередь, так отзывается об Андрееве: «В нем находят нечто общее с Эдгаром По. Это до известной степени верно, но огромная разница в том, что в рассказах г. Андреева нет ничего «необыкновенного», «странного», «фантастического», «таинственного». Все простые житейские случаи».
Но из «Знания» писателю пришлось уйти: Горький решительно восстал против публикаций Блока и Сологуба. Порвал Андреев и с «Шиповником», который напечатал романы Б. Савинова и Ф. Сологуба после того, как он их отклонил.
Однако работа, большая и плодотворная, продолжается. Самым, пожалуй, значительным произведением этого периода стал «Иуда Искариот», где подвергается переосмыслению известный всем библейский сюжет. Ученики Христа предстают трусливыми обывателями, а Иуда — посредником между Христом и людьми. Образ Иуды двойствен: формально — предатель, а по сути — единственно преданный Христу человек. Предает же Христа он, чтобы выяснить, способен ли кто-нибудь из его последователей пожертвовать собой ради спасения учителя. Он приносит апостолам оружие, предупреждает их о грозящей Христу опасности, а после смерти Учителя следует за ним. В уста Иуды автор вкладывает весьма глубокий этический постулат: «Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Вы на себя взяли весь грех. Вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Христа!.. Разве он запретил вам умирать? Почему же вы живы, когда он мертв?.. Что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она?». Сам автор охарактеризовал это произведение как «нечто по психологии, этике и практике предательства».
Леонид Андреев постоянно занят поисками стиля. Он разрабатывает приемы и принципы не изобразительного, а выразительного письма. В это время рождаются такие произведения, как «Рассказ о семи повешенных» (1908), повествующий о правительственных репрессиях, пьесы «Дни нашей жизни» (1908), «Анатэма» (1910), «Екатерина Ивановна» (1913), роман «Сашка Жегулев» (1911).
Первую мировую войну Л. Андреев приветствовал как «борьбу демократии всего мира с цезаризмом и деспотией, представителем каковой является Германия». Того же он ждал от всех деятелей русской культуры. В начале 1914 года писатель даже поехал к Горькому на Капри, чтобы убедить его отказаться от «пораженческой» позиции и заодно восстановить пошатнувшиеся дружеские отношения. Вернувшись в Россию, он начал работать в газете «Утро России», органе либеральной буржуазии, а в 1916 году стал редактором газеты «Русская воля».
Восторженно приветствовал Андреев и Февральскую революцию. Он даже допускал насилие, если оно применялось ради достижения «высоких целей» и служило народному благу и торжеству свободы.
Однако эйфория его убывала по мере того, как большевики укрепляли свои позиции. Уже в сентябре 1917 года он писал, что «завоеватель Ленин» ступает «по лужам крови». Противник любой диктатуры, он не смог смириться и с диктатурой большевистской. В октябре 1917 года он уехал в Финляндию, что стало фактически началом эмиграции (на самом деле, благодаря печальному курьезу: когда по реке Сестре установилась граница между Советской Россией и Финляндией, Андреев с семьей жил на даче и волей-неволей оказался «за границей»).
22 марта 1919 года в парижской газете «Общее дело» вышла его статья «S.O.S!», в которой он обратился к «благородным» гражданам за помощью и призвал их к объединению, чтобы спасти Россию от «дикарей Европы, восставших против ее культуры, законов и морали», превративших ее «в пепел, огонь, убийство, разрушение, кладбище, темницы и сумасшедшие дома».
Неспокойное душевное состояние писателя сказалось и на его физическом самочувствии. 9 декабря Леонид Андреев скончался от паралича сердца в деревне Нейвала в Финляндии на даче у друга, писателя Ф. Н. Вальковского. Тело его было временно захоронено в местной церкви.
Этот «временный» период продолжался до 1956 года, когда его прах перезахоронили в Ленинграде на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Стена
I
Я и другой прокаженный, мы осторожно подползли к самой стене и посмотрели вверх. Отсюда гребня стены не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезала небо на две половины. И наша половина неба была буро-черная, а к горизонту темно-синяя, так что нельзя было понять, где кончается черная земля и начинается небо. И, сдавленная землей и небом, задыхалась черная ночь, и глухо и тяжко стонала, и с каждым вздохом выплевывала из недр своих острый и жгучий песок, от которого мучительно горели наши язвы.
– Попробуем перелезть, – сказал мне прокаженный, и голос его был гнусавый и зловонный, такой же, как у меня.
И он подставил спину, а я стал на нее, но стена была все так же высока. Как и небо, рассекала она землю, лежала на ней как толстая сытая змея, спадала в пропасть, поднималась на горы, а голову и хвост прятала за горизонтом.
– Ну, тогда сломаем ее! – предложил прокаженный.
– Сломаем! – согласился я.
Мы ударились грудями о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали в отчаяние.
– Убейте нас! Убейте нас! – стонали мы и ползли, но все лица с гадливостью отворачивались от нас, и мы видели одни спины, содрогавшиеся от глубокого отвращения.
Так мы доползли до голодного. Он сидел, прислонившись к камню, и, казалось, самому граниту было больно от его острых, колючих лопаток. У него совсем не было мяса, и кости стучали при движении, и сухая кожа шуршала. Нижняя челюсть его отвисла, и из темного отверстия рта шел сухой шершавый голос:
– Я го-ло-ден.
И мы засмеялись и поползли быстрее, пока не наткнулись на четырех, которые танцевали. Они сходились и расходились, обнимали друг друга и кружились, и лица у них были бледные, измученные, без улыбки. Один заплакал, потому что устал от бесконечного танца, и просил перестать, но другой молча обнял его и закружил, и снова стал он сходиться и расходиться, и при каждом его шаге капала большая мутная слеза.
– Я хочу танцевать, – прогнусавил мой товарищ, но я увлек его дальше.
Опять перед нами была стена, а около нее двое сидели на корточках. Один через известные промежутки времени ударял об стену лбом и падал, потеряв сознание, а другой серьезно смотрел на него, щупал рукой его голову, а потом стену, и, когда тот приходил в сознание, говорил:
– Нужно еще; теперь немного осталось.
И прокаженный засмеялся.
– Это дураки, – сказал он, весело надувая щеки. – Это дураки. Они думают, что там светло. А там тоже темно, и тоже ползают прокаженные и просят: убейте нас.
– А старик? – спросил я.
– Ну, что старик? – возразил прокаженный. – Старик глупый, слепой и ничего не слышит. Кто видел дырочку, которую он проковыривал в стене? Ты видел? Я видел?
И я рассердился и больно ударил товарища по пузырям, вздувавшимся на его черепе, и закричал:
– А зачем ты сам лазил?
Он заплакал, и мы оба заплакали и поползли дальше, прося:
– Убейте нас! Убейте нас!
Но с содроганием отворачивались лица, и никто не хотел убивать нас. Красивых и сильных они убивали, а нас боялись тронуть. Такие подлые!
II
У нас не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила от нас и не отдыхала за горами, чтобы прийти оттуда крепкой, ясно-черной и спокойной. Оттого она была всегда такая усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Случалось так, что невыносимо ей делалось слушать наши вопли и стоны, видеть наши язвы, горе и злобу, и тогда бурной яростью вскипала ее черная, глухо работающая грудь. Она рычала на нас, как плененный зверь, разум которого помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими черные, бездонные пропасти, мрачную, гордо-спокойную стену и жалкую кучку дрожащих людей. Как к другу, прижимались они к стене и просили у нее защиты, а она всегда была наш враг, всегда. И ночь возмущалась нашим малодушием и трусостью, и начинала грозно хохотать, покачивая своим серым пятнистым брюхом, и старые лысые горы подхватывали этот сатанинский хохот. Гулко вторила ему мрачно развеселившаяся стена, шаловливо роняла на нас камни, а они дробили наши головы и расплющивали тела. Так веселились они, эти великаны, и перекликались, и ветер насвистывал им дикую мелодию, а мы лежали ниц и с ужасом прислушивались, как в недрах земли ворочается что-то громадное и глухо ворчит, стуча и просясь на свободу. Тогда все мы молили:
– Убей нас!
Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги.
Проходил порыв безумного гнева и веселья, и ночь плакала слезами раскаяния и тяжело вздыхала, харкая на нас мокрым песком, как больная. Мы с радостью прощали ее, смеялись над ней, истощенной и слабой, и становились веселы, как дети. Сладким пением казался нам вопль голодного, и с веселой завистью смотрели мы на тех четырех, которые сходились, расходились и плавно кружились в бесконечном танце.
И пара за парой начинали кружиться и мы, и я, прокаженный, находил себе временную подругу. И это было так весело, так приятно! Я обнимал ее, а она смеялась, и зубки у нее были беленькие, и щечки розовенькие-розовенькие. Это было так приятно.
И нельзя понять, как это случилось, но радостно оскаленные зубы начинали щелкать, поцелуи становились укусом, и с визгом, в котором еще не исчезла радость, мы начинали грызть друг друга и убивать. И она, беленькие зубки, тоже била меня по моей больной слабой голове и острыми коготками впивалась в мою грудь, добираясь до самого сердца – била меня, прокаженного, бедного, такого бедного. И это было страшнее, чем гнев самой ночи и бездушный хохот стены. И я, прокаженный, плакал и дрожал от страха, и потихоньку, тайно от всех целовал гнусные ноги стены и просил ее меня, только меня одного пропустить в тот мир, где нет безумных, убивающих друг друга. Но, такая подлая, стена не пропускала меня, и тогда я плевал на нее, бил ее кулаками и кричал:
– Смотрите на эту убийцу! Она смеется над вами.
Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокаженного.
III
И опять ползли мы, я и другой прокаженный, и опять кругом стало шумно, и опять безмолвно кружились те четверо, отряхая пыль со своих платьев и зализывая кровавые раны. Но мы устали, нам было больно, и жизнь тяготила нас. Мой спутник сел и, равномерно ударяя по земле опухшей рукой, гнусавил быстрой скороговоркой:
– Убейте нас. Убейте нас.
Резким движением мы вскочили на ноги и бросились в толпу, но она расступилась, и мы увидели одни спины. И мы кланялись спинам и просили:
– Убейте нас.
Но неподвижны и глухи были спины, как вторая стена. Это было так страшно, когда не видишь лица людей, а одни их спины, неподвижные и глухие.
Но вот мой спутник покинул меня. Он увидел лицо, первое лицо, и оно было такое же, как у него, изъязвленное и ужасное. Но то было лицо женщины. И он стал улыбаться и ходил вокруг нее, выгибая шею и распространяя смрад, а она также улыбалась ему провалившимся ртом и потупляла глаза, лишенные ресниц.
И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, прокаженный; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен.
– Дурак, – сказал я насмешливо. – Что ты будешь с ней делать?
Прокаженный напыщенно улыбнулся и ответил:
– Мы будем торговать камнями, которые падают со стены.
– А дети?
– А детей мы будем убивать.
Как глупо: родить детей, чтобы убивать. А потом она скоро изменит ему – у нее такие лукавые глаза.
IV
Они кончили свою работу – тот, что ударялся лбом, и другой, помогавший ему, и, когда я подполз, один висел на крюке, вбитом в стену, и был еще теплый, а другой тихонько пел веселую песенку.
– Ступай, скажи голодному, – приказал я ему, и он послушно пошел, напевая.
И я видел, как голодный откачнулся от своего камня. Шатаясь, падая, задевая всех колючими локтями, то на четвереньках, то ползком он пробирался к стене, где качался повешенный, и щелкал зубами и смеялся, радостно, как ребенок. Только кусочек ноги! Но он опоздал, и другие, сильные, опередили его. Напирая один на другого, царапаясь и кусаясь, они облепили труп повешенного и грызли его ноги, и аппетитно чавкали и трещали разгрызаемыми костями. И его не пустили. Он сел на корточки, смотрел, как едят другие, и облизывался шершавым языком, и продолжительный вой несся из его большого пустого рта:
– Я го-ло-ден.
Вот было смешно: тот умер за голодного, а голодному даже куска от ноги не досталось. И я смеялся, и другой прокаженный смеялся, и жена его тут же смешливо открывала и закрывала свои лукавые глаза: щурить их она не могла, так как у нее не было ресниц.
А он выл все яростнее и громче:
– Я го-ло-ден.
И хрип исчез из его голоса, и чистым металлическим звуком, пронзительным и ясным, поднимался он вверх, ударялся о стену и, отскочив от нее, летел над темными пропастями и седыми вершинами гор.
И скоро завыли все, находившиеся у стены, а их было так много, как саранчи, и жадны и голодны они были, как саранча, и казалось, что в нестерпимых муках взвыла сама сожженная земля, широко раскрыв свой каменный зев. Словно лес сухих деревьев, склоненных в одну сторону бушующим ветром, поднимались и протягивались к стене судорожно выпрямленные руки, тощие, жалкие, молящие, и было столько в них отчаяния, что содрогались камни и трусливо убегали седые и синие тучи. Но неподвижна и высока была стена и равнодушно отражала она вой, пластами резавший и пронзавший густой зловонный воздух.
И все глаза обратились к стене, и огнистые лучи струили они из себя. Они верили и ждали, что сейчас падет она и откроет новый мир, и в ослеплении веры уже видели, как колеблются камни, как с основания до вершины дрожит каменная змея, упитанная кровью и человеческими мозгами. Быть может, то слезы дрожали в наших глазах, а мы думали, что сама стена, и еще пронзительнее стал наш вой.
Гнев и ликование близкой победы зазвучали в нем.
V
И вот что случилось тогда. Высоко на камень встала худая, старая женщина с провалившимися сухими щеками и длинными нечесанными волосами, похожими на седую гриву старого голодного волка. Одежда ее была разорвана, обнажая желтые, костлявые плечи и тощие, отвислые груди, давшие жизнь многим и истощенные материнством. Она протянула руки к стене – и все взоры последовали за ними; она заговорила, и в голосе ее было столько муки, что стыдливо замер отчаянный вой голодного.
– Отдай мне мое дитя! – сказала женщина.
И все мы молчали и яростно улыбались, и ждали, что ответит стена. Кроваво-серым пятном выступали на стене мозги того, кого эта женщина называла «мое дитя», и мы ждали нетерпеливо, грозно, что ответит подлая убийца. И так тихо было, что мы слышали шорох туч, двигавшихся над нашими головами, и сама черная ночь замкнула стоны в своей груди и лишь с легким свистом выплевывала жгучий мелкий песок, разъедавший наши раны. И снова зазвенело суровое и горькое требование:
– Жестокая, отдай мне мое дитя!
Все грознее и яростнее становилась наша улыбка, но подлая стена молчала. И тогда из безмолвной толпы вышел красивый и суровый старик и стал рядом с женщиной.
– Отдай мне моего сына! – сказал он.
Так страшно было и весело! Спина моя ежилась от холода, и мышцы сокращались от прилива неведомой и грозной силы, а мой спутник толкал меня в бок, ляскал зубами, и смрадное дыхание шипящей, широкой волной выходило из гниющего рта.
И вот вышел из толпы еще человек и сказал:
– Отдай мне моего брата!
И еще вышел человек и сказал:
– Отдай мне мою дочь!
И вот стали выходить мужчины и женщины, старые и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало их горькое требование:
– Отдай мне мое дитя!
Тогда и я, прокаженный, ощутил в себе силу и смелость, и вышел вперед, и крикнул громко и грозно:
– Убийца! Отдай мне самого меня!
А она, – она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышит, и злобный смех сотряс мои изъязвленные щеки, и безумная ярость наполнила наши изболевшиеся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гневно потрясла тощими, желтыми руками и бросила неумолимо:
– Так будь же проклята, ты, убившая мое дитя!
Красивый, суровый старик повторил:
– Будь проклята!
И звенящим тысячеголосым стоном повторила вся земля:
– Будь проклята! Проклята! Проклята!
VI
И глубоко вздохнула черная ночь, и, словно море, подхваченное ураганом и всей своей тяжкой ревущей громадой брошенное на скалы, всколыхнулся весь видимый мир и тысячью напряженных и яростных грудей ударил о стену. Высоко, до самых тяжело ворочавшихся туч, брызнула кровавая пена и окрасила их, и стали они огненные и страшные, и красный свет бросили вниз, туда, где гремело, рокотало и выло что-то мелкое, но чудовищно-многочисленное, черное и свирепое. С замирающим стоном, полным несказанной боли, отхлынуло оно – и непоколебимо стояла стена и молчала. Но не робко и не стыдливо молчала она, – сумрачен и грозно-покоен был взгляд ее бесформенных очей, и гордо, как царица, спускала она с плеч своих пурпуровую мантию быстро сбегающей крови, и концы ее терялись среди изуродованных трупов.
Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги. И снова взревел мощный поток человеческих тел и всей своей силой ударил о стену. И снова отхлынул, и так много, много раз, пока не наступила усталость, и мертвый сон, и тишина. А я, прокаженный, был у самой стены и видел, что начинает шататься она, гордая царица, и ужас падения судорогой пробегает по ее камням.
– Она падает! – закричал я. – Братья, она падает!
– Ты ошибаешься, прокаженный, – ответили мне братья. И тогда я стал просить их:
– Пусть стоит она, но разве каждый труп не есть ступень к вершине? Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдем до вершины. И если останется только один, – он увидит новый мир.
И с веселой надеждой оглянулся я – и одни спины увидел, равнодушные, жирные, усталые. В бесконечном танце кружились те четверо, сходились и расходились, и черная ночь выплевывала мокрый песок, как больная, и несокрушимой громадой стояла стена.
– Братья! – просил я. – Братья!
Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокаженного.
Горе!.. Горе!.. Горе!..
Комментарии
Впервые – в газете «Курьер», 1901, 4 сентября, №244.
М. Горький прочел «Стену» не сразу после ее опубликования. В письме Андрееву от 2…4 декабря 1901 г. он писал: «Стена», при всей ее туманности, внушает нечто большее» (ЛН, т. 72, с. 114). Андрееву очень хотелось включить «Стену» в дополненное издание его «Рассказов». 30 декабря 1901 г. Андреев просил Горького: «…и вот не знаю насчет «Стены». Мне она, ей-богу, нравится. Пошлю ее тебе, будь другом, просмотри еще раз – и реши. Мне думается, что она довольно ясна, и читатель ее уразумеет» (там же, с. 126). Не дождавшись ответа на свое письмо, Андреев обратился к К. П. Пятницкому 19 января 1902 г.: «Завтра посылаю вам «Стену». Алексей Максимович еще ничего определенного о ней не сказал, но пусть на всякий случай она будет у вас» (там же, с. 492).
Рассказ «Стена», как и следовало ожидать, произвел неоднозначное впечатление на читателей и критиков. Так, П. Ярцев в «Письмах о литературе» отмечал, что в «Стене» «чувствуется стремление к грандиозным образам, но нет теплоты вдохновения» и что «во всем проглядывает надуманность – притязательная и досадная» («Театр и искусство», 1903, №40, 29 сентября, с. 726). Мих. Бессонов считал, что в «Стене» Андреев подражает М. Метерлинку («Волынь», 1902, 27 апреля, №93). «Это не творчество, хотя бы декадентское, – уверял А. Скабичевский в статье «Литературные волки», – а припадок какой-то психической болезни…» («Новости», 1902, 29 октября, №298).
К Андрееву обращалось много читателей из молодежи с просьбой расшифровать символику «Стены». Широкое распространение в списках получило письмо Андреева участнице освободительного движения А. М. Питалевой, датированное 31 мая 1902 г.
«Вы, вероятно, удивитесь тому, что я, автор, не в состоянии дать точного толкования различных подробностей рассказа «Стена» – но это так. Вполне определенными и строго ограниченными понятиями я не могу передать того, что представилось мне в виде образов живых и сложных, а потому не поддающихся регламентации.
Только в общих чертах, и притом с риском ошибиться, отвечу я на поставленный вами вопрос.
«Стена» – это все то, что стоит на пути к новой совершенной и счастливой жизни. Это, как у нас в России и почти везде на Западе, политический и социальный гнет; это – несовершенство человеческой природы с ее болезнями, животными инстинктами, злобою, жадностью и пр.; это – вопросы о смысле бытия, о Боге, о жизни и смерти – «проклятые вопросы».
Люди перед стеной – это человечество – в его исторической борьбе за правду, счастье и свободу, слившейся с борьбою за существование и узко личное благополучие. Отсюда то дружный революционный натиск на стену, то беспощадная, братоубийственная война друг с другом. Прокаженный – это воплощение горя, слабости и ничтожности и жестокой несправедливости жизни. В каждом из нас частица прокаженного.
Относительно голодного и повесившегося или повешенного я поясню примером. Много благородных людей погибло в Великую Революцию во имя свободы, равенства и братства, и на их костях воздвигла свой трон буржуазия. Те обездоленные, ради которых они проливали свою кровь, остались теми же обездоленными – тот умер за голодного, а голодному от него даже куска не осталось. Седая женщина, требующая от стены: отдай мне мое дитя – это мать любой из ваших подруг, или студента, сосланного в Сибирь, или покончивших с собой от тоски жизни, или спившихся – вообще так или иначе погибших в жестокой борьбе.
Смысл же всего рассказа в словах: «…Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдем до вершины. И если останется только один, – он увидит новый мир». Довольно верное и хорошее толкование дает «Стене» Геккер («Одесские новости», 1 мая). К его статье рекомендую вам обратиться. Очень буду рад, если мои объяснения удовлетворяют вас.
Леонид Андреев».
(«Звезда», 1925, №2, с. 258.)
Объяснения Андреева не удовлетворяли читателей, порождали их новые вопросы к автору. «Для тех, кто чувствует стену, которую на каждом шагу строит действительность, мои объяснения не нужны, – заявил Андреев в газетном интервью. – А тем, кто стены не чувствует или беззаботно торгует падающими с нее камнями, мои объяснения не помогут» («Биржевые ведомости», 1902, 13 ноября, №310).