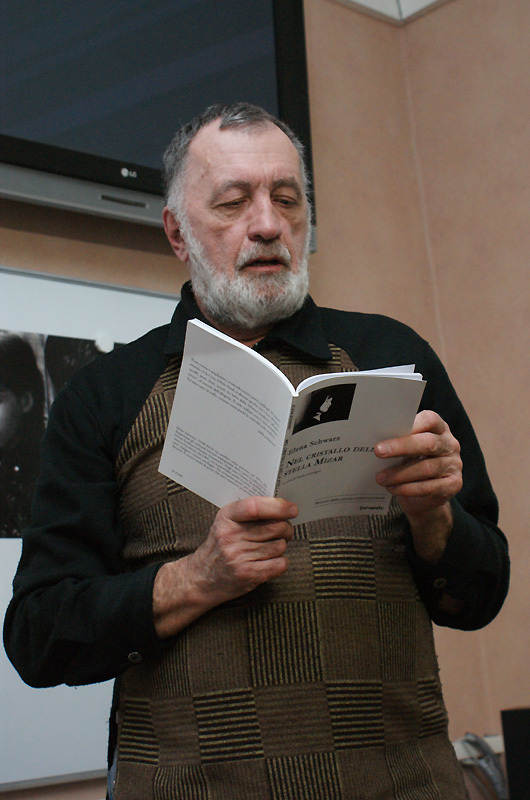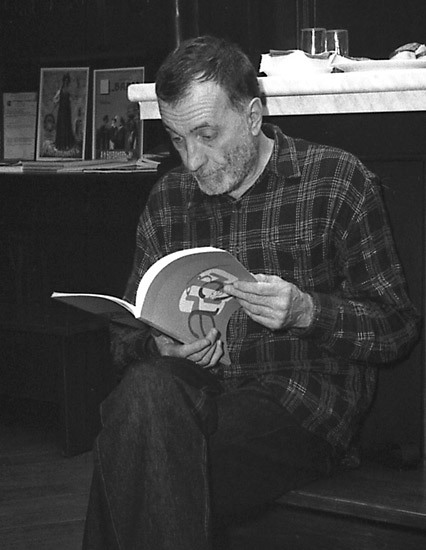КВАНТОВАЯ ПОЭЗИЯ МЕХАНИКА
Вот, например, квантовая теория, физика атомного ядра. За последнее столетие эта теория блестяще прошла все мыслимые проверки, некоторые ее предсказания оправдались с точностью до десятого знака после запятой. Неудивительно, что физики считают квантовую теорию одной из своих главных побед. Но за их похвальбой таится постыдная правда: у них нет ни малейшего понятия, почему эти законы работают и откуда они взялись.
— Роберт Мэттьюс
Я надеюсь, что кто-нибудь объяснит мне квантовую физику, пока я жив. А после смерти, надеюсь, Бог объяснит мне, что такое турбулентность.
— Вернер Гейзенберг
Меня завораживает всё непонятное. В частности, книги по ядерной физике — умопомрачительный текст.
— Сальвадор Дали
Настоящая поэзия ничего не говорит, она только указывает возможности. Открывает все двери. Ты можешь открыть любую, которая подходит тебе.
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
Джим Моррисон
БОРИС ОСТАНИН
Борис Останин (род. 1 октября 1946, Монгольская Народная Республика) – эссеист, редактор, переводчик, литературный деятель. Родился в семье военного летчика, всё детство странствовал по Советскому Союзу вместе с отцом. С 1961 г. в Ленинграде. Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. Работал сторожем, лифтером и т. п. С 1976 г. соредактор (совместно с Борисом Ивановым) самиздатского журнала «Часы». Один из учредителей (1978) Премии Андрея Белого и до настоящего времени член ее Комитета. В 1992—1997 гг. главный редактор «Издательства Чернышёва» (СПб), в дальнейшем сотрудничал как редактор и консультант с издательством «Амфора». Опубликовал в самиздате (под различными псевдонимами) и, после 1990 г., в тиражной периодике ряд критических статей о новейшей русской поэзии. Автор двух книг афоризмов. Переводил с английского и французского языков прозу и драматургию А.Камю, Э.Ионеско, Ж.Жене, К.Маккалерс, К.Кастанеды и др., а также (совместно с В.Кучерявкиным) монографию В.Маркова «История русского футуризма».
П У Н К Т И Р Ы
Отрывки из 4-й тетради
Поэзия подобна пятнам Роршаха: сравнение травинки с копьём (немцы) или с дудкой (Заболоцкий) выявляет совершенно различные мировоззрения. «Строки Роршаха».
Ужасна и невыносима для взгляда голая тюремная решётка. Красивая же, с завитушками – смягчает удар, позволяет, глядя на красоту, забыться…
Человек рождается для жизни, а не для разговоров о жизни.
Не суди о человеке, что он для тебя, а суди, что он для Бога. Но об этом не тебе судить!
Кому не на что опереться, тот опирается на трупы.
От лозунга: свобода, равенство, братство, мир, труд – осталось: труд, труд, труд, труд, труд.
Школа мастерства есть школа ада.
Голубь («птица мира») – одна из самых жадных, жестоких и похотливых птиц.
Я – семя, и я – старик (семя, не желающее прорасти).
Чужак свиреп и безжалостен, что полезно для управления страной. Cреди современных узурпаторов – немало инородцев (Наполеон, Гитлер, Сталин).
В Америке меня интересует только анти-американское.
Свободная воля жива, но смертна; бессмертие сопряжено со смертью свободной воли.
Значение американской культуры раздуто апологетами Америки, как в своё время было раздуто значение Рима.
И Америка, и Рим лишены самого важного, без чего невозможна культура: искры Божьей.
Гениальность столь же редка, как редки новые игры.
Для большинства людей «всё, что могло начаться» началось где-то в XVI веке, во времена Галилея, не раньше.
Душа ждёт праздника. Хочется ей праздновать. Хочется – и всё.
От Греции нам достались римские копии статуй, расколотые на куски. Индия сохранила свою скульптуру целой.
Глядят сквозь вещи… и называют это «глубиной видения».
И ноль, и бесконечность, и Бог замыкают те или иные многообразия (числовые, мировые), что позволяет соотнести с Богом ноль (Индия) или бесконечность (Европа). Единица с Богом как-то не соотносится, противостоит ему (позитивизм, Кун-цзы).
Я остаюсь «здесь», поскольку не верю, что спасение – «там». Но и не верю в то, что спасение – «здесь».
В конечном счёте, я вообще не верю в спасение.
Когда мы ценим книгу, мы обижаем женщину.
Давнишняя моя мечта: мир без слов. «Мечта литератора».
«Свет разума», выхватывая из темноты предметы, лишает их глубины и объёма, делает плоскими и однообразными.
Чтобы мыслить, мне необходимо раздражение. Печально… но что поделаешь? И чем острее раздражение,
тем проницательнее мысль.
Мы всё строим, строим, строим… нашим детям, детям, детям… и всё будет, будет, будет… А ничего нет.
И значит: ничего не будет.
В христианстве будущее служит основанием для настоящего (этика). В коммунистическом учении будущее
ничего не обосновывает, оно просто «есть». Есть где-то там. И ест людей, их жизни и души. Молох Будущего.
Ум – средство для обмана.
Мы, мол, как-нибудь и кое-как… да ничего, обойдёмся… Зато там, где-то и когда-то, кому-то, быть может, будет лучше…
(идеология коммунизма)
Поскольку «авось» родствен русской душе, то неудивительно, что русские приняли идею коммунизма. Тот же «авось».
У меня совершенно ничего нет (из трудов), кроме «Пунктиров». Но и их как бы нет.
Неверно, будто я – непослушное дитя и выступаю против законов. Просто – «память плохая», забываю, чему
и как подчиняться, вот и живу, как получается…
Я не боюсь «чужого глаза», но когда я с ним – это одно, а когда без него – другое. Больше люблю «без глаза».
Мне всегда жаль людей, которых недооценивают, и хочется восстановить их в правах. Порой даже до глупости: Гегель, Гегель, Гегель… а почему не Пришвин, например? Очень обидно, что всё Гегель и Гегель, а Пришвина совсем нет. Хочется, чтобы хоть ненадолго было наоборот: Пришвин, Пришвин… а Гегеля «вдруг позабыли».
Великий человек подобен снежному кому: срабатывает какая-то «экспонента», которая даже крошечные отличия «великого» от «малого» умножает до бесконечности. И всё в «великом» становится важным:
даже пуговица на фраке!
Религия – радость, а не больница.
Психология претензий, споров и недовольства всё больше захватывает простых людей. Каждый чего-то добивается, домогается, требует, обижается, капризничает… Ни тишины, ни покоя.
За воротами этики.
Умные нам тогда нужны, когда они бомбы делают. А если умный сам по себе и сам для себя, тогда мы его лучше расстреляем.
Страсть американца обогнать всех столь велика, что он придумывает «что-то» специально для того, чтобы оказаться в нём первым.
Из познаваемости мира отнюдь не следует необходимость его познания.
Всякий человек погружён в море из человеков. «Ближнее море».
Россия на отмели.
С появлением газеты начался мозаичный период истории. Только мозаика эта – «вывернутая»: отдельный элемент газетной информации ещё наделён смыслом, а вот весь газетный лист смысла лишён.
Отяжелевшая душа, никак не оторваться.
Человек не умеет жить. И никакой размах мысли, никакой разгул фантазии ему не помогают: не умеет.
Вместо точки зрения (единичной, отчётливой) – перспектива зрения (скользящая и расплывчатая).
С одной стороны – «жить хочется», с другой – «все умирают, и я умру». Вот и попробуй преодолей такую «заминку»!
Когда я родился, со мной родился мой потолок (предел возможностей), и всю жизнь – он надо мной. И что бы я ни делал, как бы ни старался – вот он, никуда от него не денешься… Но так ли это плохо? Так ли плохо иметь «крышу над головой»?
Больше веры в необнаружимое.
Цивилизация уже тем плоха, что всё, чем она живёт, люди взяли и специально выдумали. Это «специально» всё и отравляет. Непременно захочется чего-нибудь неспециального (без специй и специалистов)!
Миф – вечность литературы.
Море образует край, границу, к которой люди устремляются и, достигнув, затихают в предчувствии мира иного, огромного, недоступного. Море и есть край нашего мира. ( – Вы куда? – К морю.) У леса пафос иной: в лес уходят, в него погружаются, избавленные от непременной направленности движения, в нём просто пребывают. ( – Вы куда? – В лес.)
Морской берег и лесная чаща – зримые образы двух важнейших «томлений человеческого духа»: христианства и дзен-буддизма.
Голос Твой затерялся в тишине, и я ответил Тебе далёким эхом…
Меня не столько мысли интересуют, сколько уподобления.
Европейское общество есть «общество одежд»: всякое раздевание в нём временно и, в конечном счёте, обречено на провал.
Мысли мои застревают в мозгу, не добравшись до языка: мозг, словно паутина дохлых мух, полон недовысказанных мыслей.
Атлетические соревнования греков (борьба) есть взаимное ощупывание. Такова же их любовь, таковы их геометрия и арифметика, атомы, космос…
В Евангелии Апокалипсис предшествует Второму пришествию, в России – наоборот.
Бессмысленно противопоставлять романтическое событие – мещанскому быту, поскольку любое событие происходит сейчас в рамках быта и, следовательно, все мы являемся мещанами. О прочем остаётся только мечтать.
Открыв для себя «широкое поле», я так и не ступил на него ни одной ногой.
Индусу холодно в Европе, европейцу в Индии – жарко. В духовном мире свои «климатические зоны», свои пустыни и свои тропики. Европейцу, обитателю умеренного климата «классических форм», не вынести ни пустынь религиозной аскезы, ни тропиков художественного сверх-изобилия.
Технократ, всю жизнь проработавший «на войну», раскаявшийся под старость лет в своих деяниях и занявшийся нравственной филантропией, так и остаётся для меня технократом. Я не верю в искренность его раскаяний: кажется, он не зачёркивает труды своей жизни, а просто старается post factum «гуманизировать» их. – А что же ты раньше думал?
Как видно из истории, человеку никогда не было хорошо. Откуда следует, что и сейчас ему «не так уж плохо».
Чтобы полюбоваться цветком, европейцу непременно надо его сорвать!
Мы работаем на государство, потому что «деньги нужны». А почему бы не работать, по той же причине, на Церковь?
Прежде чем говорит о мире, полюби его.
Вечный блин комом.
(о России)
Отважимся на поэзию без метафоры, науку без причин и следствий, религию без воплощения.
Кто не в силах создать себе абсолютную цель, пусть научится жить без неё.
Самое главное: не хочу спасения. А если хочу, то лишь изредка, «для отдыха».
«Всё дозволено» понимают обычно как нарушение общепринятого (преступление). А почему бы не увидеть в нём разрешение невозможного (преображение)?
Время змеёй кольцует человека и сжимает, сжимает – пока не удушит совсем.
Обычное желание: начать новую жизнь. Не лучше ли начать жизнь старую?
Среди всего этого, именуемого «прогрессом», совсем неплохо оказаться реакционером.
Реальные проблемы: реальные, а не словесные! Я по ним ужасно тоскую, меня без них хандра одолевает.
Есть изнутри-крикливые люди: даже когда шепчут – всё равно кричат!
Сквозь закоптелое окно памяти вглядываюсь в прошлое: тусклый свет, мутные тени, непонятное дыхание…
На длинные фразы у меня не достаёт дыхания, памяти, рассудительности.
В собственном мнении не больше ценности, чем в любом чужом. Но своё «теплее». Так и душа.
Затерянное поколение.
В разных странах люди и пьют по-разному, и по-разному пьянеют.
Из окна догматического сознания непременно высовывается чья-нибудь бронзовая голова.
Профессия обязывает!
Пятнадцать лет учиться, чтобы стать, наконец, идиотом! Не лучше ли бы сразу, без учёбы?
Женщины, как и дети, – прекрасные учителя: провоцируя на возражение, они острят мысль, указывают новые возможности.
Моя жизнь – песня. Пропетая хриплым и неверным голосом.
Ни малейшего желания сверять себя с другими: лучше ли, хуже? оригинален или «такой, как все»? И так хорош.
Человечество без продукта не может, а вот человеку пожить без него очень даже полезно.
И всё ожидают от меня чего-то, ожидают… И я ожидаю: когда же перестанут, наконец, ожидать?
Пришло вдруг в голову, что вся моя «философия» исчерпывается двумя словами, собственно, молитвой: Всё хорошо. Прежде я об этом как-то не думал и даже слов таких не произносил,
но если перевести моё «религиозно-философское понимание мира» в слова, получится именно так: Всё хорошо. Моя Иисусова молитва.
Вера – кровь; литература – моча. Вера – нутряная, литературе надобен выход.
Куда нам ещё «восточную мудрость»? И западную-то не знаем куда деть.
Пусть Бог, но не господин!
У мужчины – подвиг; у женщины – подвижничество.
Бесов не убивают, а изгоняют.
(о современности)
Мне легко жить: в любой момент могу «от всего отключиться» и вернуться к своей магистральной мысли: Ничего не надо! (в положительной форме: Всё хорошо).
Игра в «Спасителя»: кого бы ещё спасти? И уже не могут не спасать.
Год за годом «топчусь на одном месте». Даже так: «ворочаюсь с боку на бок». И не хочу другого.
Чтобы жить своей эпохой, надо чтобы и она жила тобой. Но если время тебе чуждо, наберись смелости – стань и ты чужим времени.
Ну зачем тебе «общество», «прогресс», «светлое будущее»? Мало что ли птиц, собак, листьев?
Три области недоступны женскому гению: философия, математика, музыка. Интересно, что именно в них с изумительной силой проявили себя немцы.
Безделье – протест. Против чего? Против дела, лишённого смысла.
Что делать нынче человеку, тяготеющему к делу? Неужто идти в службу?
Легко создать идеологию «для всех»; куда труднее устроить свою собственную жизнь.
Центральная фигура германской культуры: человек трезвый (чиновник, моралист, инженер, капиталист). А пьяный «вынесен за скобки».
Отшельники опаснее для государства, чем революционеры. С революционерами хоть общий язык найти можно, а с отшельниками – никак.
Не надо мне рая, только оставьте меня в покое.
Не пора ли изгнать всех евреев и интеллигентов – и строить «светлое будущее» без них?
«Жизнь – это борьба». И сколько вокруг убийств, ненависти, смерти… Поневоле захочешь иного. «Жизнь – это рождение».
Любимое, неискоренимое людское занятие: убивать себе подобных.
Национальный дух тесно связан не только с языком, но и с алфавитом. Удивительна проницательность Петра I, в нужный момент заменившего русский алфавит на «средне-европейский».
Китайцы едят мирными бамбуковыми палочками, европейцы и за обеденным столом устраивают сражения (нож, вилка).
Варвары не иссякли, культура ещё возможна.
Толпу построили, окружили конвоирами – и повели в рай.
Во Франции много вина, и потому много поэтов. В Германии мало вина, и потому много поэтов.
Не хочется никого поучать. Но ведь если не поучать добру, будут поучать злу.
Ты – немой. Узнай это и живи, зная это.
Привыкли видеть в человеке мясорубку: сюда кладём, отсюда выходит… и с подозрением и негодованием смотрят на тех, из кого «ничего не выходит».
Социальность, в конечном счёте, – всего лишь совместное чаепитие. И разговор за чаем. Приятная, конечно, вещь, но стоит ли преувеличивать?
Полное, ясное, непротиворечивое мировоззрение – не более как претензия на власть и водительство.
Перламутр, перламутр… Зелени недостаёт.
Собирается толпа, и чтобы оправдать собрание – ищет общее дело. Находит такое в разрушении. «Нет ничего проще».
Всё сидел и сидел, читал книгу. Оказывается: спал. Похрапывая.
Поджечь сети. Поджечь, поджечь, поджечь сети.
Девять лет просидел перед стеной: сначала с тайной надеждой, что откроется; потом в твёрдой уверенности, что не откроется; затем просто по привычке; наконец, поняв, что всё давно уже открыто. После чего иссякло и понимание, и только настенный календарь позволяет мне ныне произносить эти слова: Девять лет перед стеной. Но были ли они, эти девять лет? И была ли стена? И где, в таком случае, был я?
Разговор служит не взаимному пониманию, а пониманию самого себя.
Легко отказаться от мировоззрения, когда оно есть. Когда нет – ещё легче.
Фундамент моего бытия непрочен. Но и выдержать ему надо немного – всего одного.
Научились строить «лучшие миры»: отцы строили, и дети будут строить, и внуки. А как жить в мире, пусть даже не лучшем, забыли.
С глубоким удовлетворением размышляет человек о своём богатстве: денег нет, зато талантлив… и т.д. А попробуйте отказаться от всякого богатства. От всякого.
Даже такие немецкие миротворцы, как Швейцер, исполнены милитаристского духа. Почитайте его книги, обращая внимание на слова: военно-полевой лексикон!
Не истина важна, а правдивость: истина задевает нас откуда-то извне, правдивость проистекает изнутри.
Страна, в которой «культура» рифмуется с физкультурой.
Верить можно лишь в рождённое собой. Оно же внушает наибольшие сомнения. Таково творчество.
Бог с ней, с истиной-то… вот жизнь как прожить?
Глубокие люди, застрявшие на мелководье современности.
Три формы речи обладают особой ценностью: молчание, косноязычие и «ангельские голоса» – именно они и используются при разговоре с Богом. Что касается «обычной речи», то это не более, как общее место, «частушка»…
Коридор с запасными выходами. «На всякий случай».
(моё мышление)
Страстное моё желание: потратить себя зря.
Где кончается истина, там начинаются правила игры.
Сугубо мужская профессия: называтель имён. Женское видение мира стоит «по ту сторону называния»: Ева была создана после того, как Адам уже «всё назвал».
«Как по нотам». Самое нелюбимое.
Человек с даром спасён, но и опасен.
Узнав о моей «борьбе за свободу», кто-то, умный и понимающий, качнёт головой: «Да-да… и это необходимо… и это входит в общий мировой план…» Так и вцепился бы ему в горло!
Не потому обидно, что «меня обидели», а потому обидно, что «люди такие».
Свобода относительна, но не следует преуменьшать её возможностей. Мы привыкли «гнётом необходимости» оправдывать слабость, лень и усталость своей души.
Не знаю, как жить и для чего жить, но так ли это для жизни важно?
Мой бог мал: мой, он никак не велик; вне меня, он никак не мой.
В их учителе скрывается палач, в балете – военный парад, в свободе – тирания.
Зачем глядеть на Восток, если я – уже на Востоке?
Казалось бы, что именно атеисты, не верящие в существование загробной жизни, должны с уважением и благоговением относиться к жизни на этом свете. Совсем наоборот! Они-то и оказались к ней самыми безразличными, самыми ненавистными.
Чем мельче тварь, тем чаще бьёт крылом.
Днём думаешь об одном, ночью в голову приходит совсем другое: писателю, работающему в дневное время, не понять того, кто пишет ночью.
Бог сумасшедших, он тоже Бог.
«Лень додумать», «не знаю толком», «связности не хватает» – таково моё дилетантство. Чем, впрочем, не философия?
Словно сел в ночной дребезжащий трамвай и еду, еду… и такая вдруг усталость навалилась, что сил нет встать… вот и сижу… и еду, еду, без конца…
Ах, смысл, смысл! Готов и красоту за тебя отдать.
Спрятался среди деревьев, упрямый в своей печали…
Селятся кучно, дом к дому, хотя и знают давно, что с дома на дом бегут частые пожары и болезни – всё равно дом на дом теснят… и нет, кажется, для них страшнее дома,
чем дом одинокий, дом на отшибе.
(о русских)
Не случись русского казуса, о марксизме знали бы разве что из учебников экономики (да и то мелким шрифтом).
Современный марксизм – своеобразная форма мистики: например, он не видит принципиальных различий между мужчиной и женщиной. Это в нём и интересно.
Называют духовным то, что правильнее назвать книжным.
Каких только страстей ни наговорит интеллигент за столом! Но не бойтесь, не бойтесь: слова это всё, слова, слова…
В куполе православной церкви и стреле колокольни – со-поставленные Россией Восток и Запад.
Я: Бога хочу найти! А мне: Ходи в церковь, ходи в церковь! Или это не так нелепо, как кажется?
Пишу коротко и обрывисто. Почему? Да потому что «ни для кого».
Жизнь утратила свой накал, но вот что странно: человек ценит её и цепляется за неё как никогда прежде.
Подлинную «умную радость» приносит нежданная мысль. Бог мой, как она редка!
Ребёнок и есть настоящий учитель, только наука его нам невнятна, довольствуемся искусством.
Когда узришь себя точкой, а не запятой, завершением, а не продолжением, – тогда и умереть не жалко.
Голос застревает в горле.
(о нашем времени)
Что есть дух? Не знаю. Дух есть, но что он есть? Не знаю, не знаю.
Человек – мыслящий тростник, но и это его не спасёт!
В литературе у меня – короткое дыхание. Готов на этом дыхании писать всю жизнь. «Мой размер».
Тридцать томов Гегеля и три строчки Басё. Что перевесит?
Есть жизни, похожие на сборники цитат.
Хочешь узнать меня – узнай меня во хмелю.
Тщеславие – мужское кокетство; кокетство – женское тщеславие.
Книги – лишь убежище, и мысли – лишь убежище, и дела – лишь убежище.
Ни одного дела, ни одной фразы, ни одной мысли не доведено до точки… Сплошные многоточия…
(о себе)
Социальная лестница увлекает многих не реальными благами, а новыми одеждами. Карьера как смена гардероба.
Моё отношение к желаниям: есть они – они есть, нет их – их нет.
Для чего людям «великие идеи»? Чтобы умереть за них. Чтобы убить за них.
Мои «Пунктиры» – образчик вечного повторения: мысль топчется на месте, стиль вторит сам себе, словарь нищенски однообразен…
Прожить без всего.
Когда же мы, наконец, научимся видеть в одиночестве награду, а не наказание!?
Всё больше и больше времени проводим «где-то», «мимоходом», «по пути»… домой возвращаемся «лишь поспать»… Повсюду успеваем, нигде нас нет.
Изобретение книгопечатания, упрятав писателя «за тираж» и вооружив его удалённым от личного примера словом, породило идеологическое сознание.
Давайте вспоминать о том, чего никогда не знали.
Во времена всеобщей безвкусицы люди со вкусом – несчастнейшие из созданий!
Я никуда не хочу идти, я уже пришёл.
1974
Отрывки из 5-й тетради
Жизнь напоминает танец на болотной кочке: покуда на ней – жив и весел, чуть ступил в сторону – уже в трясине, уже нет тебя.
Покричи – и помолчи.
Плох тот текст, что слишком умело ведёт за собой. В тексте непременно должны быть пропуски, умолчания, перебои, белые пятна.
Возможный выход: Западо-Восток.
Традиционный труд-проклятье немцы заменили трудом-спасением.
Нирвана – отказ от всех зеркал.
Идеальные представления о человеке, жизни и мире формируются в юности, то есть задолго до реальной встречи с тем, другим и третьим.
Есть что-то ужасно смешное: в Л. Толстом, в его семействе, в его последователях… Вот так же «ужасно смешон» был никогда не улыбавшийся комик Б. Китон.
Люблю писателей одной книги. Приятно знать, что они не только книги писали!
Сижу на муравейнике и удивляюсь, что муравьи кусаются.
Чтобы не замечать пустоту, люди то и дело её меняют.
Какой актёр умер!
(на смерть Толстого)
Всё меньше интеллигентов, всё больше интеллектуалов.
Я их не знаю, почему они меня знают?
(против известности, против сыска)
Интересно, кто через 200 лет будет читать Филдинга? Теккерея? Бальзака? Золя? Всех прочих буржуазных романистов с их бесчисленными буржуазными романами?
Хочет ли человек слышать? Нет, иначе бы он не шумел.
Неподвижность вещей создаёт у человека иллюзию овладения временем.
Русские философы и богословы «серебряного века» с эсхатологией явно переусердствовали. Не они ли накликали революцию?
Фридрих Великий (и вся Германия) – Конфуций, помноженный на Чингис-хана.
В конце концов можно прожить и без чернильницы.
Некому сказать, зато и нечего сказать.
Какие-то нелепые, ехидные, болтливые придворные и мещане (Вольтер и С?)… И это называется лучшие философы Нового времени!
Я зрею для «темы», которую мне не осилить. С этим и умру.
Долго и обстоятельно говорю о том, что мне не о чем говорить.
Не начинай жизнь с книжных идеалов; начни ей проще, грубее, с годами утончая. Твой идеал пусть окажется плодом жизни, а не её предисторией. Так и женщина: не рождается с ребёнком, но дорастает до него.
Гору красоты готов отдать порой за крошку смысла. А порой – наоборот.
На фоне западного изобилия и всеобщей тяги к изобилию кого могут увлечь призывы к аскезе?
Как рождается настоящее слово? Взлётом любви. Всплеском ненависти.
До мифа была музыка. Миф – это и есть музыка. Музыка, обросшая словами.
Славянофильство можно возродить следующим образом: усмотреть в нём лишь «верхний слой» и указать в глубине на свет с Востока.
Всё немцы виноваты!
(о петербургской культуре)
И потоп хорош: хоть покупаемся вволю.
Из молодых идеалистов получаются хорошие солдаты.
Лучше своё молчание, чем чужое слово.
Кое-что надо сохранить «для себя», но не потому, что «стыдно» или «страшно», а потому, что когда для других, «всё теряется» и перестаёт быть «тем, что было».
Бытие многообразно: человек кричит, говорит, шепчет, молчит.
В мужском мистицизме, что ни говори, преобладают духовность и здоровье, в женском – эмоциональность и истерика.
Словно удав кролика, заглатывает человек свою молодость, а потом, в неподвижности и полудрёме, питается ей до самой смерти.
У русских не было эпоса. Не в этом ли причина их неприкаянности?
Преднамеренная случайность.
Наука слишком опасна, пора от неё отказаться. Именно поэтому и не откажутся!
Цветы, произрастающие из людских мучений.
В основании Европы больше варварского, чем греческого, больше римского, чем христианского.
У индусов – древо жизни, у европейцев – телеграфный столб.
Наука пришлась по душе атеизму и нигилизму. Почему? Не потому ли, что она – их «детище»? Или потому, что даже нигилизму нужны хотя бы элементарные процедуры жизни?
Остряки и болтуны Просвещения.
«Лови мгновение!» Готов, которое из них?
Даже если за абсурд хорошо платят, он не перестаёт быть абсурдом.
(о нашем времени)
Вместо леса – одно дерево, у дерева – одна ветвь, на ветке – один плод. Всё прочее: корчуется, прореживается, выстригается.
(тотальность)
Не я – во времени, время – во мне: зеленеет, краснеет, желтеет…
Европеец всякое дерево норовит обратить в столб: «приятнее для взгляда», «не так страшно», «рациональнее».
Выпадение из социальности: отшельник в Риме, юродивый в Москве.
Для западного человек мир – это мир, который «надо переделать». Иначе он не может, у него «руки чешутся».
Друзья мёртвых цветов.
К чёрту историю! Ничто не на-следует и не по-следует, всё со-бытует.
Духовная позиция и есть, возможно, всё «дело моей жизни». Но ближним хочется чего-то поощутимей.
Бог позволяет жить нараспев.
Жизнь – бегство от свободы. Допустим. Но и свобода – бегство от жизни.
Призванию своему поклоняются, как идолу. На этом и попадают в ловушку.
Внутренне да спросят: «А что ты сделал?» И как-то неловко ответить: «Ничего-с». Хоть дерьмо меси, да делай что-нибудь!
Все политические и исторические события – лишь рябь на поверхности озера, в глубине которого обитает какая-то огромная неизвестная тварь. Лежит себе тихо, дремлет… но тварь эта и есть «самое главное», самое непременное, без чего и «истории не бывать».
Отказ от рифмы в поэзии и от бороды на лице – явления одного порядка.
Непонимание – тоже способ мышления.
Сторонники мира – это непременно «борцы за мир», или «миролюбивые силы», или ещё что-нибудь воинственное.
Пик новой культуры будет связан с насилием.
Плохая память – спасение для памятливых.
Страсть человека – тот крючок, на который его без труда цепляют власть имущие. Бывают времена, когда нравственно «не хотеть» или хотя бы «мало хотеть», «почти не хотеть».
В любом мифе больше мудрости, чем во всём позитивизме!
Весь мир пропитан ненавистью, насилием, смертью. Почитайте их книги! Послушайте их речи! Загляните им в глаза! Ведь это ужасно, ужасно, ужасно…
Связать в один узел: зеркало и людоеда – и понять Европу.
Паранойя и шизофрения – две крайности речи: в первом случае она сгущается и становится непроницаемой для чужих голосов, во втором – ослабевает, редеет и пропускает в себя чужое многоголосие. В Европе столетия господствовала параноидальная форма духовности.
Герои Толстого, в сущности, лишены сознания: у Толстого оно есть, а у них нет. «Куклы на нитках».
Настоящий ницшеанец должен ненавидеть Ницше.
Узор интереснее истины.
Формы современного карнавала: азартные игры, совместная пьянка, баня, «свальный грех»…
Порицая «бегство от действительности», что обычно понимают под действительностью? Государство, город, завод, работу… Но действительно ли это действительность?
Вместо пары «истина-ложь» обратим внимание на пару «узор-пятно».
Беременная Старуха – Смерть.
Берегись ума ясного, берегись ума мутного. Ищи ум просветлённый, но затуманенный.
Смерть в праздник.
Святые сливаются в единую толпу, равноблизкую к Богу. «Круги веры».
За описание и объяснение мира берутся те, кто даже комнату не способен описать, в которой живёт, даже муху, пролетевшую мимо…
Три норны – «весь германский дух»: Судьба, Становление, Долг.
Талантливые сны.
XIII век – цветок Европы. После него – лишь «пышное увяданье».
Эх, Россия, Россия!
Поэзия – «литература» дописьменного периода. Проза – ответ на изобретение письменности. Возможность восстанавливать текст по буквам (а не по памяти) донельзя расслабила писателей.
История есть, но её может и не быть.
Мир кусочен и напоминает комнату с двумя дверями, через которые входят и выходят какие-то люди, звери, вещи… И жизнь кусочна. И человек. И даже Бог кусочен…
Мои рассуждения – уже не наука, но ещё не фантазия. Ни то, ни сё.
Чем жалеть чилийцев да греков, пожалейте себя!
Разговор – провокация собеседника на его собственное мышление.
Лежал, лежал – встал. Ходил, ходил – лёг. Лежал, лежал – встал. Ходил, ходил – лёг. Лежал, лежал – встал…
(день жизни)
Говорят о свободе духа и читают «Литературную газету»!
(мои современники)
Что смогу выговорить – другому достанется (и это хорошо), что не смогу – моё будет (и это хорошо). Прекрасно явленное, прекрасно и сокрытое.
Люди, по большей части, не добры и не злы; они нейтральны.
Оставим немцам – Канта, грекам – Аристотеля, а себе – философа по душе.
Называя человека «зверем» и «дикарём» обычно имеют в виду те сугубо человеческие черты, о которых ни зверь, ни дикарь не подозревают.
Жизнь без цели – тоже жизнь. Цель можно рассматривать как христианский «предрассудок».
Странное сейчас время: оно торопится в ад. И нас с собой торопит.
Вечность – постоянная мода.
Мир узловат. Нет верха и низа, есть только узлы.
Как муха в липкой бумаге, так я – в традиционном мышлении: и рад бы взлететь, да не могу, не могу… увяз…
Зачем нам мораль, когда есть полиция?
Чужой народ подобен замкнутому на ключ дому: дёргай – ни дёргай, всё равно не откроешь! Вот и злость берёт, и зубы скрипят. Но если бы, имея ключ, ты открыл дверь и вошёл, то увидел бы: дом как дом… стол, стул, кровать, картинки на стене…
Существует лишь атомы и пустота (Демокрит). Вот он, «европейский герой».
Жить короткими перебежками.
Хочу так мыслить и писать, чтобы «и кухарка меня понимала».
Ирония обедняет человека, подменяя всё многообразие его реакций одной-единственной: похихикиванием.
Любовь к одному оправдывает безразличие ко всем.
Каждый жаждет кем-то стать, и почти нет тех, кто уже есть.
Судороги настоящего, которое строят на будущем.
Что важнее: понять Бога или быть понятым другими? Первое: духовность; второе: культура.
Несчастный одинокий садист.
Американцы – тоже люди, но я в этом постоянно сомневаюсь.
У человека нет никаких прав (но он их придумывает), у человека есть только обязанности (но он их избегает).
Жизнь плоха уже тем, что может быть ещё хуже.
«Формовщик» общественного мнения (от эпохи к эпохе): святой, священник, философ, писатель, журналист…
Время подёнок, подёнщиков, подонков…
(о современности)
Никаких жертв – ни ради личного блага, ни ради общественного. Благо не стоит жертв.
Голый среди голых.
Казённую литературу невозможно читать без ухмылки. У многих интеллигентов эта ухмылка навечно приросла к лицу.
Есть две возможности. Только ли две?
Хорошо и посмеяться иногда, но смеяться всю жизнь – это ли не помешательство?
Взгляни на небо: и тучи на нём, и облака, и звёзды, и просинь, и мгла… Будь как небо.
«Россию надо подморозить». Душу тоже.
Большую часть своих творческих и нравственных поступков человек, останься он в одиночестве, не совершил бы.
Чтобы грозить Богу кулаком, надо Бога видеть.
(об атеистах)
Подлинный атеизм есть полнейшее пренебрежение Богом.
Что первично? Всё то же: клетчатая скатерть, дымящийся картофель, плетёное кресло… Всё остальное – вторично, третично…
У языка есть свой язык.
Человек – муравей, обучившийся чтению.
Я напишу 2 000 слов, 20 000, 200 000 слов, напишу их 2 000 000, 20 000 000… и по-прежнему буду смертен и не буду свободен.
Уверенность в неизбежности смерти позволяет человеку жить спокойно, надёжно, убедительно…
Психология, психология, психология… Чрезмерный, преизбыточный наплыв людской психологии.
Важно, оставаясь детьми, не быть по-детски беспомощными.
Главнейший оплот отцовства: Ветхий Завет.
Не обязательно быть спасённым, достаточно быть с Богом.
В прошлом веке умирал поэт – и вся поэзия качалась и кончалась. Сейчас, кажется, всех советских поэтов можно перестрелять – поэзия этого и не заметит.
Самое нужное, самое полезное, самое трудное, самое грустное: признание в собственной ординарности.
Как радостно: нас ещё не убили!
Не знаю, дороже ли жизнь человека – жизни зверя… и даже – жизни дерева…
Современная интеллигенция и её баррикады из книжных шкафов.
Не в том дело, что «убийство неизбежно», а в том, на что направлено сознание: на убийство или от него.
Стихи – камерный глазок в груди поэта, в который Бог подглядывает за узницей-душой.
Византийский купол – обитель Эроса; готический шпиль – Танатоса.
Смерть вошла в привычку.
И радостные игры горьки, а веселье жизни преисполнено грусти и безнадёжности… и Бог отворачивается виновато и бормочет: Ну ладно, ладно…
Футуристы, несмотря на все свои декламации и декларации – совершенно беспомощные и склонные к конформизму люди.
Человек думает о себе: трагик. Оказывается: комик. «Опять не угадал».
Чудесно рождение гения, чудесны его труды… но жизнь гения – далека от совершенства.
Я не хочу свободы. Я хочу Бога.
Как мало у человека возможностей! И как хочется думать, что они всё-таки есть.
Существует ли научная смелость? Ведь учёный, в сущности, существо трусливое, и весь его ум – не иначе, как от трусости. Так что если и набирается вдруг смелости, то вовсе не от науки, а от чего-то другого.
И суха травинка, да сыта скотинка!
(о творчестве)
Злодей – тот, кто лишает нас последних возможностей.
Чем спешить дальше – оглянись рядом.
(о сборе грибов, прогрессе, любви)
Странные всё-таки люди: Руссо, Толстой, Хемингуэй…
Человека увлекает к толпе самое простое желание: прикоснуться. В самом прямом смысле: телом.
Профессия и положение наполняют человека такой самоуверенностью, так его «раздувают», что он совершенно забывает об их защитном происхождении.
Общественная иерархия – не столько лестница, сколько скорлупа.
Как может увлечь будущее, которое не менее структурно, чем настоящее? Стоит ли убивать миллионы людей только для того, чтобы сменить одну структуру – другой?
Довольно революций.
Существует лишь одна революция: революция сознания. Других нет. Всё прочее – реакция и контр-революции.
Мир – горсть пепла.
В политике слишком много от детектива: какие-то Богом забытые страны оказываются в центре общественного внимания, потому что там началась война (и появились свежие трупы). Интерес к политике не в последнюю очередь обусловлен этими трупами.
В каждом американце – что-то от Хемингуэя.
Когда грудь сдавлена обручами и прошита клёпками, даже самая нежная ласка подобна «шипу острому».
Многое невыносимо в этом мире, но как вынести 60 миллионов людей, убитых соотечественниками?!
Костюм – единственный гарант устойчивости в мире, лишённом смысла (в мире без Бога). Определяя смысл жизни и сущность личности, он оказывается «сильнее смерти» и требует к себе самого серьёзного, кровного отношения.
Готов проклясть этот мир… но чего стоят мои проклятья, если я и сам проклят вместе с ним?
Для выявления национального духа очень полезно обратить внимание на простые и каждодневные вещи: детские игрушки, интерьер двора, кухонную утварь…
Могу признать силу в человеке только после его признания в полном бессилии.
Русский народ подобен навозу: тёмный, да тёплый. Та же неподвижность, и грязь, и вонь, и доброта…
Европеец учительствует не столько потому, что «ребёнка надо научить», а потому, что при этом «лицо важное имеет», а то и «розги можно применить».
После отмены в школе розог мужчины идут туда неохотно. Перебрались – кто в армию, кто в тайную полицию (там розги дозволены), а школу оставили женщинам.
Евангелие пропитано патологией, имя которой – дух.
Человек жаждет побеждать. А если сам не может, то хотя бы: примкнуть к победителю. И в этом – поражение человека.
И камень жалко.
Кто такие римляне, в конце концов? Солдафоны и театралы.
Были домовые, были лешие, были русалки, были всякие-разные духи и демоны… но, обиженные человеком, ушли, пропали, не попадаются больше на глаза.
Буржуа, съедаемый завистью к аристократу, взялся ему доказать, что «и он не хуже»: если не положением, то личными заслугами, трудом, деньгами.
Поменьше думай о дьяволе и Фрейде.
Слово – маска мысли; в слове мысль теряет присущую ей живость, мимику, запах… зато приобретает отчётливость.
С одной стороны, нам хочется органичности, с другой – многообразия. Но совместимо ли одно с другим? Не обречены ли мы лишь на одно?
Отношение римлян к грекам напоминает отношение европейцев к евреям: и уважение, и неприязнь, и зависть, и ненависть.
Возрадуемся не нашей добродетели, но нашей жизни.
По смерти человек обратится в навоз, а большинство из нас – и при жизни таковы. И вот навоз этот борется, страдает, полагает себя «перлом создания»…
Есть слова, которыми пестрят мои записи (человек, европеец, вера, Бог, я, женщина), а есть – ни разу в них не попавшие (кожура, провод, овсянка, мерзлота, плот). А почем бы не простроить на этих словах философию? Чем они хуже?
Чтобы не забыть о замысле, надо довести его до крайности.
(мнемоника, экстремизм)
Евнух – эссенция ближневосточной тирании: один мужчина настолько возвышается над другими, что заставляет их служить себе в не-мужском обличии. Не в этом ли сокровенный смысл любой тирании: всех женщин упрятать в гарем, всех мужчин превратить в евнухов?
Убедившись в том, что моральный прогресс человечества «не имеет месте», стали с гордостью говорить о прогресс научно-техническом. Но какое нам до него дело?
Человечество ходит пятками вперёд.
Сильная боль (как и глубокое наслаждение) настолько заполняет собой человека, что полностью отрезает его от мира.
Там, где индусу достаточно дыхания, европейцу нужна, по меньшей мере, ходьба.
Образ литературного (и прочего) творчества: изгнание бесов из человека, вселение их в свиней.
Как стон, не унимая боли, облегчает её, так и искусство, не снимая тяжести жизни, дарит человеку роздых.
Бедная природа! Дети твои так и норовят заглянуть тебе под юбку, стащить платье, содрать кожу, истолочь кости…
Пишу не для «истины», а просто «мысль пришла».
Захотелось поделиться мыслью с приятелем. Играем же мы вместе в карты – почему бы не поиграть в мысли?
Город (государство) берёт все заботы о горожанах на себя, превращая их, тем самым, в беспомощных детей.
Когда люди молятся, они хоть не сражаются.
Жена в семье – словно храм в переулке: никак не отойти, чтобы полюбоваться издали.
Экзистенциализм – философия вопросительного знака.
Неспособный выбрать себе подходящее окружение, русский всегда готов изменить его.
Вся история России такова: князья-варяги, крещение из-под кнута, Жёлтая Орда, безумный Иван, Пётр-самодур, немцы-управители, Красная Орда… И единственное светлое пятно: масленица.
Массовая наука подобна чиновничеству: выполни то-то и то-то (как велит начальство и инструкция) и получишь то-то и то-то (кресты, повышение).
Революция сделала Россию заграницей самой себе.
Два основных занятия героев Достоевского: чаепитие и самоубийство.
Во сне мерещится рука, сжимающая горло, но стоит проснуться – и она уже не мерещится, она есть на самом деле: рука, сжимающая горло.
(о государстве)
Настолько привык к осадному положению, что останусь в нём и после снятия осады.
Память подобна тайнику, в котором мы временами, уединившись от любимой, перебираем незнакомые ей лица, имена, события…
Освещённая заходящим солнцем обнажённая девушка в окне. Такое вот и запоминается. На всю жизнь, до самой смерти.
Как важно быть любимым!
Не исключено, что все «таланты-самоучки» и «народные самородки» были внебрачными детьми всё тех же аристократов. Глупая мысль, да и статистика не подтверждает… а всё-таки!
Различия между мужчиной и женщиной относятся скорее к культурной сфере, чем к биологической. Вполне возможно, что пол – культурный феномен.
Записи мои – не обо мне: в себе я себя не вижу, не нахожу.
Загнанный зверь становится бешеным.
Книги ничему меня не научили, жизнь тоже. Последняя надежда: «своя душа».
Вера предшествует существованию.
Взгляд обманывает, прошлое обижает: сколько надо смелости, чтобы сказать жене правду о любовнице, себе – о жене.
В жизни мы бегаем по кругу, и самый отставший нередко оказывается впереди всех.
Вера столь же естественна и насущна, как «есть хочу». Почему же «есть хочу» принимается как должное и не подвергается критике, а «верить хочу» вызывает усмешку и требует обоснований?
И мысль, и чувства – не мои, а лишь проходят через меня. Нет «моего»: всё «через» и ничего «моё».
Не личность важна, а борьба за неё. Следствие такой борьбы: концентрация духа, а что это такое, как не личность?
Однообразие торжественно, чинно, солидно.
Личность – одна из уловок духа, позволяющая ему «собраться».
Цель могу себе поставить, а достигать не буду: пусть достигает меня сама. В этом моё женское: сам не ищу, но отдаться готов. И очень капризное женское: отдамся, да не всякому, более того: почти никому.
Мы обижаем женщину, не познав её, и остаёмся перед ней в вечном долгу.
Как хочется устроить винегрет: смешать высокое и низкое, умное и глупое, новое и старое, голову и задницу! Никаких различий: всё важно, всё! И всё преисполнено двусмысленного смеха и плача.
Прекрасны: совместное горе, совместное наслаждение. Но они и невозможны.
Даже в момент наибольшего наполнения я совершенно исчерпан.
Истинная фантазия непоколебима.
Расширение пространства за счёт введения новых размерностей не добавляет к нему ничего существенно нового. А вот ось глубины (она же ось времени), обнаруживаемая в зеркале, нова по существу: ось устремления, недостижимости, видимого неведения.
Явленное меня не убеждает, и самое убедительное – то, чего нет.
В музыке я открыл образ своего несчастья. И поняв это, перестал слушать музыку.
В чужом сознании скрывается угроза: желание «закрючить», «привязать», подчинить.
Европейская сексология сверху донизу пропитана медициной и гимнастикой, ни грамма поэзии, ничего живого…
Бог – вершина, но Он не вверху.
Не только люди, даже смерть безвестна.
Смерть подобна чуду: внезапна и неожиданна. Горькое, но всё же чудо: жил человек, жил – и вдруг умер.
Брак – путь к разводу.
Скрывай свои мысли, чтобы любимая не плакала.
Образцы культурных пошлостей: В жилах Ницше текла славянская кровь… Талантливый Веневитинов умер в 21 год… и т.д.
Перевод не должен быть точным. Более того, он не должен быть достоверным.
Вечное, вечное, вечное: не то, не то, не то…
Вся греческая мифология: кто с кем (сражается, совокупляется).
В многоруких и многоголовых индийских богах указано не столько движение мира, сколько его принципиальная «многотелость».
Тупик – не только то, к чему ты пришёл, но и то от чего можешь уйти.
Или любишь для наслаждения – и тогда извращений нет и быть не может; или для рождения ребёнка – и тогда следует стать аскетом.
Мужчина – мыслящий тростник, женщина – сахарный.
Искусство любви достигается с думой о живом, с думой о Боге. Сквозь любовь просвечивают боги и богини…
Моё воображение – доносящиеся до меня чужие голоса.
Писание дарит спокойствие. Писание – островок безопасности. И не в написанном дело, а в самом письме (перо в руке, знакомые буквы, строки слов).
Любовь ведёт к браку, брак – к разводу, развод – к любви.
Гляжу внутрь себя и ничего не вижу.
В наше время женщина ездит на трамвае и, следовательно, не может быть «гордой», «величественной», «светской»…
От русского народа слишком многого ожидали. И зря. Привели Ивана на трибуну, молчат, ждут, что скажут. А он постоял, постоял, потом высморкался, махнул шапкой – и довольный пошёл домой.
Музыку рождает тишина, а не звучание.
Словом снимается желание. В этом – сила слова.
Стоит ли бояться одиночества? Разве не сулит оно нам покой и тишину, созерцание и понимание?
Что видишь один, вдвоём уже не увидишь. Что делаешь вдвоём, один уже не сделаешь.
Бесстрашие характеризует начальную стадию культуры; для цивилизации характерна трусость.
Когда Бог перестаёт быть проблемой, проблемой становится всё.
Моя жизнь есть непрестанное, безостановочное редактирование жизни: то зачёркиваю прожитое и вписываю новых людей и события, то возвращаюсь к первоначальному тексту. Вся жизнь – лишь черновик: текст вымаран, варианты перечёркнуты, сверху и сбоку лица и слова… и ничего не разобрать: ни цели, ни смысла, ни результата… Один измаранный черновик.
Всеми своими «достижениями» я обязан плохой памяти.
И с женой жить – словно без жены.
(об истоках поэзии)
Корни в пустоте.
Греческий рок явно придуман переводчиками.
О чём я снова и снова? О чём я без конца? О Западе и Востоке, о мужчине и женщине, о жизни и смерти… Вот и все темы.
Я привязан к миру и людям не более, чем колючка репейника к овце, за которую зацепилась.
1973-1974
Отрывки из 7-й тетради
Творчество напоминает мне бритьё холодной водой в отступающей армии: «сосредоточенность среди хаоса».
Жизнь есть ожидание красивой мелодии.
Вокруг себя вижу поколение, лишённое выносливости. И это в то время, когда современность и означает: испытание на выносливость.
Не верю, чтобы красота могла оказаться всеобщим спасителем, потому что она – «луч света в тёмном царстве» и подразумевает немногочисленность к ней причастных.
Физики бегут в парапсихологию, как селяне – в город. Но и ведут себя в парапсихологии соответственно – как селяне в городе.
Как можно меньше бесконечностей! И если уж оставить одну, то «самую крошечную», «самую неприметную».
Культура, утратившая понимание аскетики, столь же неустойчива и опасна, как и культура, созидаемая исключительно на аскетике.
Жизнь – какая-то странная, срединная игра, в которой одинаково неверными оказываются и самые сильные, и самые слабые ходы.
Жажда проникновения в тайну вещей зачастую обличает нахала, гордеца и узурпатора.
Большая часть литературы пишется из злости. Ну, не большая, конечно, – меньшая… и всё-таки…
Допустим, человек способен воспарить над обыденностью, но означает ли это его приближение к Богу? Странно думать, что любой отрыв от мира сего приближает в миру Божественному. Ведь и упавший в колодец не обязательно приближается к звёздам.
Парадокс – изнанка ортодоксии.
Нас пугают чёрными бесами и ободряют белыми ангелами. А почему так мало говорят об оранжевом цвете, о зелёном, фиолетовом?
Кувшин разбился. Есть о чём задуматься: можно ли склеить? будет ли прежним звук? Но вот иной подход: на осколках кувшина выращивать цветы. Не таково ли искусство?
Хор оракулов.
Моралисты – то цензоры, то судейские, то тюремщики, а то и палачи! Их главное слово: нельзя! А ведь человек живёт тем, что можно. Не отсюда ли всеобщая неприязнь к моралистам?
Ради «единственной истины» погибает слишком много людей.
Всё чаще слышу: разум мешает человеку. Но как мешает: сам по себе или по нашей неспособности с ним управиться? Как тяжёлая ноша или как ноги – пьяному?
Покуда знаю лишь одно: свобода труднее неволи.
Реально помочь можно лишь тому, кто лишён таланта; имеющий его – поможет себе сам. Но что за интерес помогать тому, кто лишён таланта?
«Не спугивай птиц с деревьев!» Прекрасные слова. Прекрасен тот, кто их произнёс. Прекрасен тот, кто их услышал. Прекрасны птицы, которых никто не спугивает с деревьев.
История пишется обычно как история результатов, а значит – как результативная история. Если и упоминаются порой «заблуждения» и «неудачи», то лишь на фоне общих достижений.
А почему бы не написать «Всеобщую историю неудач»?
«Исходя из природы человека…» Но какова она, эта природа?
Лучший способ избавить человека от старых привязанностей: дать ему новые возможности.
Сколь часты и непременны в русской литературе выход из дома в сад и возвращение из сада в дом!
Кто-то из знакомых сказал со значительным лицом: «Творчество – моя молитва». Я возразил ему в уме: «Молитва – моё творчество». Но сколь напыщенно и неверно прозвучали и его слова,
и мои…
Раскованность и неприкаянность.
Есть тепло очага и тепло пепелища; большинству из нас знакомо только второе.
Муж и жена – словно щепочки на воде. Люди тонут, корабли переворачиваются, а они всё плывут и плывут.
Зрелость связана не столько с умением быть щедрым, сколько с искусством быть скупым.
Опытный политик должен знать людей, а они его – нет.
Теперь меня цвет ангельских крыльев (белые или красные) волнует куда больше, чем некогда теорема Гёделя о неполноте.
Кому интересно, жив я или мёртв?
Огромная разница: знать, что существуют законы человеческой жизни, и знать, что есть люди, которым они известны.
От молчания – к косноязычию… от косноязычия – к «ангельским голосам»… от «ангельских голосов» – снова к молчанию…
Очередь – точная и краткая характеристика современного общества. Всё будет дано каждому – в своё время, «за выслугу лет», только жди терпеливо и не покидай очереди.
Литература спасает нас от крайностей философии.
Здравый смысл – замедленный парадокс; интуиция – внезапное общее место.
Ах, блаженный Августин, всё прошло, прошло!
Вина Иуда – в том, что он пошёл к Каиафе, вместо того чтобы «умыть руки».
Эпоха устойчивости наступает тогда, когда детей и взрослых учат одному и тому же. Кажется, мы живём как раз в такую эпоху.
Когда случайности преобладают, не следует придавать им особого значения.
Основа доброжелательности: уметь радоваться другому, как самому себе (не меньше и не больше).
Разговор уже не вызывает во мне былого азарта. Не потому ли, что «исчерпал себя нравственно»?
Нет – не ищу, есть – не отвергаю.
(моя психология)
Почти все знакомые мне супружеские пары – глубоко несчастны. Удивительно, но так.
За моральную стойкость с наше время приходится расплачиваться язвой желудка. Былое возмездие за грехи превратилось в расплату за нравственность.
Россия – татарская прививка на византийском теле.
Грустно, невероятно грустно разбирать старые, многолетней давности бумаги, письма, записные книжки. Неужели само время передаёт свою грусть всякому, кто ступит на его следы?
Моток сознания.
Изо дня в день запертые в одной комнате, муж и жена становятся слишком доступными друг для друга. Как не достаёт им тех недолгих разлук, которые пружиной бросают любимого к любимой!
Обычно становлюсь на сторону слабейшего: для восстановления равновесия, для предупреждения «космической паранойи».
Сонливость – средство от несчастья.
Есть что-то на удивление неблагодарное и неблагородное в обучении других людей (даже детей). По мне так лучше быть клоуном, чем педагогом, достойнее удивлять, чем убеждать.
Вполне возможно, что терпение – одна из форм вымогательства, причём самая утончённая. Когда уговоры не помогают, остаётся просто «сидеть и ждать». Не такова ли и святость?
Протестующий часто оказывается героем, но редко – мудрецом.
Всякое упорство и настойчивость могут стать (и обычно становятся) поводом для иронии и карикатуры. Но существует та высшая степень упорства, которая разламывает все рамки осмеяния и вызывает разве что страх и благоговение.
Мы ничего не боимся, но и нас никто не боится.
Для одних: история – дом; для других: дом – история.
Отточенность стиля нередко возникает из желания корректно подсказать о своей неприязни.
Цель – ничто, движение – тем более.
Этот человек не может быть хорошим – он упорно не даёт другим спать!
Возникнув как сексуальная приманка, красота со временем обрела самостоятельность и стала оказывать на секс обратное воздействие: находятся, например, люди, которые находят секс «эстетически непривлекательным».
Как просеки, не имея ничего общего с лесом, позволяют в нём не заблудиться, так и теории, «не имея ничего общего с миром», помогают в нём ориентироваться.
У меня превосходная память: она ничего не запоминает.
Провинциальное пифагорейство Хлебникова.
Как вдох и выдох, чередуются в человеке тяга к свободе и рабству, к любви и ненависти, к Богу и дьяволу, к жизни и смерти. Вдох-выдох… вдох-выдох… Дышите! Не дышите! Дышите!
Питающий подлинную неприязнь к болтовне замечает её не только в чужих разговорах, но и в собственных мыслях.
Современная цивилизация достигла, как это ни прискорбно, нового рубежа цельности: она научилась создавать мифы из повседневного опыта.
Сломались небеса.
На все философские и религиозные теории я смотрю, так сказать, с военной точки зрения: как можно меньше убитых и раненых при поддержании максимального уровня духа армии и её боеготовности.
Всё, что ни делалось на Руси, делалось, в самом прямом смысле, из-под палки.
Утрата веры в связность мира приводит литератора к диалогу и драматургии. Этим путём шли Чехов, Введенский, Беккет, Ионеско… Повествовательный текст «естественным образом» поддерживает связность; драматургический – её разрывает.
Я редко касаюсь тёмной, материнской основы мира, зато с поистине эдиповым темпераментом обрушиваюсь на его светлые, смысло-образующие элементы. Мать – едина, отцов – много, который же из них мой? Как обескураживает меня эта космическая полиандрия!
О том же – другими словами.
(проблема понимания)
Не использую ли я свою лень для сокрытия внутреннего беспокойства?
Блеск защищает от нападения: слепит противника, не даёт ему тебя видеть. Таков «блеск» афоризмов. Как яркий свет, так и полная темнота помогают укрыться от надоедливых взглядов.
Это у датчан-мореплавателей: «или-или», а у русских лесных жителей: «и-и».
1973
Отрывки из 8-й тетради
Одни мысли подобны растущим деревьям, другие – убегающим в глубину колодцам, третьи – обглоданным костям. Но есть мысли – словно прохладные белые ладони из темноты… прикоснутся к горячей щеке – и исчезнут. Всегда внезапно, всегда неожиданно: появятся, прикоснутся, исчезнут.
Насколько полно и достоверно просвечивает в окружающих нас мелочах и частностях общий дух эпохи! Как красноречивы асфальт, «дневное» освещение, крупноблочные дома…
Мысль ходит по кругу, человек ходит по кругу… Даже круг ходит по кругу.
Любителей громкой музыки следует подвешивать на креслах внутри органа.
Нынче человек весь, целиком, вынесен на сцену, равномерно залитую светом всеобщей осведомлённости и дознания, и превращён в совершенно неинтересную плоскую поверхность.
Часы моей жизни заперты в шкафу и хрипло тикают оттуда.
Душа подобна беглым светотеням на воде. Мало ли это? Не знаю.
Наша эпоха, наше время… Чьё это «наше»?
Посадили на яйцо и велели высиживать, а чьё яйцо не сказали, и что из него высидится – тоже неизвестно. Может быть, воробей, а может, страус. А может, оно пустое.
(моя жизнь)
Как интересны малые дети! А вырастут: чиновники, офицеры, инженеры… В чём дело? Кто виноват?
Действие бессловесно, но разве менее выразительно, чем слово?
Духовные люди нередко наделены нелепым чувством превосходства над «недуховными». Неужели тот или иной добавок способен что-нибудь изменить в абсолютном ничтожестве человека?
И до сих пор не устали от этой бесконечной лестницы с надставными ступенями!
(о прогрессе)
Современной духовности более всего угрожает стилизация.
Весь день ходят вокруг то хромые, то женщины с узлами и чемоданами, то старики с младенцами на руках. Каждый день по-своему: хромые, с чемоданами, с младенцами…
Зеркало – основа западной цивилизации.
Всё говорят: цельность души, концентрация духа… А ведь и рассеянность – ничуть не хуже. И даже по-своему замечательна: непосредственна, неожиданна.
Форму придумали греки.
Человек – социальное животное, и в силу этого – животное опасное. Его личные безумия то и дело превращаются в общественные, и тогда нет нам от них спасения!
Осязание – непосредственное прикосновение, жизнь без памяти, постоянная новизна открытия. Зрение и слух, опережая человека, допускают подделки и мистификации.
Бог – есть Бог ускользающий, Бог-Скользкая-Пята.
Боюсь ли я смерти? Не знаю. Если и боюсь, то как боятся зубной боли: нет – не думаю о ней, есть – тихо вою.
Призраки, которых испугались в детстве, преследуют всю жизнь.
Я недвижим, душа моя недвижна и лишь «пухнет». Вот это вспухание души и есть моя устремлённость к Богу.
Жизнь – не путь, а дыхание, и не странник человек, а дерево.
Пространственный мир «объединяет» людей, играя роль основы и регулятора общего языка. А как построить общий язык, исходя из внутреннего ощущения?
Почему нас так волнует общий язык? Почему нас волнуют другие? В чём суть и пафос взаимопонимания? Действительно ли оно необходимо?
Будет культ, будет и культура. И церковь всегда будет выше музея.
Судьбы А.Бенуа и Н.Рериха показательны как эпигонско-эмигрантское завершение раскола русской мысли на западную и восточную.
Женская духовность едина и неделима, мужская ищет удвоения. А ведь, казалось бы, наоборот: ребёнок в чреве женщины – голос другого мира. Или всё начиналось со снов, и первым их увидел мужчина?
Можно ли построить культуру без религии? Или без религии ей будет «чего-то» не доставать? Возможна ли подлинно глубокая и духовная светская культура?
На одной фотографии: Толстой и Чехов. Толстой-генерал рубит ладонью по воздуху, вещая какую-то истину, а Чехов спокойно сидит в кресле и слушает.
В миссионере есть что-то от Нарцисса: самовлюблённый, он желает увидеть себя повсюду, «во всех зеркалах».
Тщеславие – одно из проявлений нарциссизма: жажда обнаружить себя в эхе чужих слов.
Ощущение цвета, как ни странно, даёт не столько глаз, сколько ухо. В некотором смысле цвет – это зримый музыкальный момент.
Огромный пустой зал, без стен, без зеркал, без эха – и точка-человек в нём.
(о современности)
Отношение философа к жизни подобно отношению критика к литературе и евнуха к женщине: досконально знают свой предмет, но на него «не способны».
Таким авторам, как Роллан или Рерих, всякое слово берущим с заглавной буквы, нет языка лучше немецкого.
Отважимся на жизнь без биографии.
Толстой, в отличие от Достоевского, совершенно не удался как пророк. Пророк умеет слушать себя (прислушиваться), Толстой лишь созерцал свои выдумки.
Страсть человека фотографироваться многое в нём объясняет. Очень любили фотографироваться: Толстой, Маяковский, Сталин, Бунин, Горький…
Стоит студенту учуять в себе «духовность», как он принимается за изучение философов. Кого же он изучает? Немцев. В лучшем случае, греков. И вместо того, чтобы познавать себя, познаёт немецких и греческих философов.
Лучше совершать собственные ошибки чем повторять чужие. Лучше заниматься русской литературой, чем немецкой филологией.
Природа мстит людям руками людей.
(об Эйнштейне)
Почему пророчество сродни трагедии? Не потому ли, что оба порождены «слухом»?
Чинопочитание немцев отпечаталось даже в грамматике: все существительные – с заглавной буквы.
Ощупывая себя, пророк ощупывает человеческий состав и судьбы; Нарцисс же созерцает в зеркале своё отражение – и только!
Привыкли думать, что спасение где-то далеко: за границей, при коммунизме, в раю… А ведь оно – здесь, рядом, на расстоянии дыхания.
Обычный порядок вещей: человек живёт, работает, любит, творит… и наконец приходит к мысли о бессмысленности своего существования. Но возможен и обратный ход: осознав универсальность абсурда, начать творить, любить, работать, жить…
Огонь лучше всего хранить в золе.
Человек подобен безумному строителю, который всю жизнь ремонтирует дом, а сам в нём не живёт.
Господь простит! Впрочем, и прощать особенно нечего.
Хочу стать деревом.
Книга – одна из форм воли к власти (эпидемическое подчинение читателя). Русские, полагаю, могут без книги обойтись.
Свиньи полезли в господа и сожрали господ, а сами так и остались свиньями.
(о демократии)
Бог незыблем и отпадает от нас лишь по причине скользкого пути к Нему да наших шатких ног.
Мистика как слияние с архетипом.
Записи мои подобны естественной нужде: как приспичит – сажусь за тетрадь. Розанов говорил о литературе: мои штаны. Я скажу: мой горшок.
Ах, какой мог выйти военный!
(о Ницше)
Христианство куда более остроумное средство для сверхчеловека, чем ницшеанство: призывая людей к смирению, христианство расчищает дорогу и пашню для призванных к господству.
Европейца легче подловить опровержением, чем доводом: ходить пятками вперёд ему сподручней.
Глядя на дом с улицы, разве догадаешься, что в нём происходит?
(об истории и археологии)
Чего во мне больше всего? Слов. Язык – самая деятельная часть моего тела. И если я когда-нибудь превращусь в дерево, это будет говорящее дерево.
Что ни немец, то миссионер или военачальник: Лютер, Фридрих, Бисмарк, Ницше, Швейцер, Гитлер…
Дело не в том, мала ли причина, а в том, велико ли следствие.
Слово рождается у меня «от безделья»: не мысль творит слово, а безделье.
Жёсткий политический режим – превосходная литературная цензура: всё дерьмо всплывает, а вещи подлинные остаются на дне.
Нет ничего противоестественнее «культурной толпы».
Современность подобна белому кафелю в ванной комнате: всё тускло в нём отражается, ничего не прилипает, всё чисто и по-больничному стерильно…
В музыке Вагнера господствует духовой оркестр.
Чтобы обмануть людей, надо убедить их в своей честности.
(о Толстом)
Человек настолько человек, насколько он способен на самоубийство.
В чём опасность остроумия? В том, что твои остроты будут повторят «на всех углах». Лучше уж быть тугодумом.
Если Бог даст мне веру, я её приму, но с радостью ли? Неверие тяжело, но оно – моё, привычное, выстраданное. Жалко расставаться.
Петербург – явление не географическое, и не политическое, и не социальное, и даже не психологическое. Петербург – явление психиатрическое.
Какое нынче подполье? Чуть расслабишь галстук – и всё подполье…
Идиотизм одного человека может оказаться гениальностью; идиотизм миллионов навсегда им и останется.
Ницше, как психологический тип, удивительно похож на Толстого; Руссо – на Достоевского. А казалось бы, «совсем разные люди».
В каждой квартире – голубой огонёк инквизиции.
(о телевидении)
Что такое мои мысли? Сплетни души, «душесплетения»… И постоянное ощущение, что «чего-то» не хватает.
Удивительнейшая способность человека: свои поражения выдавать за победы.
Глаза мои беспамятны: я забываю «прекрасные лики мира сего», хотя и помню, что они являлись мне порой… когда? где? в каком облике?
Мы несчастны – нас убивают против нашей воли. Мы несчастны – у нас нет сил защищаться. Мы несчастны – мы знаем о своём несчастье.
Когда-то искусство выражало душу Бога, потом – душу человека, наконец – душу машины. Бесконечные вариации на тему «прежде и теперь».
Мало званых, да много избранных.
(ницшеанство)
Европеец – путник. Всё для него путь, движение, развитие, устремление… Настоящая мания.
Мир окрысился на человека, человек – на мир.
В футуризме гораздо больше соглашательства, чем бунта; подчинения, чем независимости; позы, чем смысла.
Уподобим дух дереву: пусть растёт, но не движется.
Возможно, люди и не болтливы. Однако они всегда говорят: не то, что надо; не там, где надо; не тому, кому надо.
Духовность есть способность человека Ничто обращать в Нечто (и наоборот).
Оплакивают бедность, смерть близких, уход любимой… а почему не оплакивают своё безбожие?
Сократ приучил нас к болтовне.
Если вокруг одна пустыня, то не всё ли равно: идти или стоять на месте?
Греческая симметрия замкнута и пластически воплощена в однофигурной статуе; образ её – шар. Совсем иное индийская скульптура: разомкнутые, танцующие, соседствующие тела; образ её – дерево.
Что такое человек? Что такое Бог? В чём разница между ними?
Творчество писателя нередко является описанием своего невроза и попыткой его излечения. Казалось бы, какое до этого дело читателю? Оказывается, есть: неврозы-то общие!
Не знаю, зачем жить. Но и не знаю, зачем не жить. «Буриданов осёл».
И вдруг пустота обретает глубину и заполняется тенями и голосами.
Я не лучше камня, но и не хуже Бога. Более того: я хуже камня и лучше Бога.
Жить без вины – значит: покинуть пределы западного общества, построенного на ощущении виновности.
Тряпичная кукла приучает ребёнка даже в неживом видеть живое. Механическая игрушка, напротив, и с живым учит обращаться как с мёртвым.
Начало не знает конца, как корни не знают листьев. Неужели не знают?
Людей ровно столько, сколько любимых; все остальные – фигуры.
Камень, Бог, человек – явления одного порядка.
Не понимаю: ценны ли мои мысли? Без читателя кажется: «бред», «голоса»; с читателем – «мало ли что он сказал!»
Море глубокое, но и в нём плаваешь лишь поверху. «Недостижимая глубина».
Я не свидетельствую о Боге, я лишь догадываюсь о Нём.
Бывают времена, когда лень оказывается положительным качеством.
Афины мало чему научили Европу, зато успех Спарты здесь несомненен.
Всадник, сорвавшись на полном ходу с лошади, летит в воздухе и падает на землю. Говорят: мечта опережает реальность.
Полезно иногда поглядеть на себя со стороны затылка.
Традиционный режим видит в пассивности сограждан лояльность; тоталитарный усматривает в их пассивности – оппозицию.
Мозг дан человеку для того, чтобы думать о своём несчастье.
Природа безразлична, пусть так. Но и бескорыстна.
С постройкой первого дома началась частная жизнь. Каин – первый индивидуалист.
Поступки богаче мыслей: они сопровождаются непредвиденным.
На смену «лествице» вновь приходит «кольцо».
Есть слова, которые – если уж не избежать публичности – следует писать бесцветными чернилами.
Если людям не дано понять друг друга, пусть друг друга любят.
Слова порождают время, и они же убивают его. А музыка?
Ребёнок играет в те игры, которые любит; взрослый любит те игры, в которые играет.
Не есть ли тяга к абсолютному – лишь одна из человеческих условностей?
Отчего в Европе к Богу тянется в первую очередь несчастный? Отчего европеец ищет в Боге утешителя? Отчего не ищет Бога человек счастливый? Неужели дефицит – sine qua non веры?
Телевидение разрушает дом.
От Парфенона до крупноблочных домов не так далеко, как может показаться. Иное дело: индийские или готические храмы.
Прежде культура была кожей, стала одеждой.
Души у меня, возможно, нет… а вот боль есть. Или душа это и есть боль?
«Долг» каждого интеллигента: иметь своё мнение о Платоне, Шекспире и Достоевском.
Не я – в Боге, а Бог – через меня, и плач Его без меня есть плач предсмертный, а мой плач без Него – плач бездетный.
Помимо болтливости языка существует болтливость духа.
В наше время напрочь разучились говорить: или молчат, или спорят.
Принято выдавать борьбу (противоположностей, классов) за «необходимость», а по мне так лучше бы просто признались: нравится (война, дуэль, полемика).
Словно сосна: корни кривые, ствол прямой.
Есть крепости, которые не следует брать ни штурмом, ни осадой. Лучше обойти их стороной – и они падут сами по себе!
Пусть человек зол и вообще паук, но когда один – даже интересно. А если пауков – сотни, тысячи, миллионы… толпящихся, давящих, пожирающих друг друга?
В 2010 году падёт Российская империя.
Слово – одежда авторитарности.
Куда вода течёт, туда и земля клонится.
Как мать без дитяти, так я – без Бога: душа моя без Него тверда и бесплодна, а любви моей не на кого излиться.
Реальность современного человека – реальность абсолютного бесправия. Живущий может радоваться тому, что жив; идущий по улице – тому, что не сидит в тюрьме или в сумасшедшем доме.
Зло подобно чуме: борьба с ним обрекает на заражение.
Слово вредно; ещё вреднее многоязычие.
Отношение европейца к Богу напоминает отношение голодного к еде: пока голоден – ест, когда насытится – пренебрегает.
Молчание учит правильной речи.
Концлагерь – логическое завершение идеи массового воспитания.
Почему у меня слово невесёлое? И лицо весёлое, и душа… а вот слово невесёлое.
Человек – Божья неудача.
История этой страны – её тайный порок, который она скрывает даже от себя.
Православие не случайно пыталось заменить Бога-Отца (и даже Христа) – Богородицей и святыми.
В пределах каждого национального духа существуют его «мужская» и «женская» разновидности.
Локти противоречий.
Чувство и жест – основа всякого искусства. В равной мере опасно как пренебрегать ими, так и их преувеличивать.
Лишённый вдохновения проповедник вдохновения.
(о себе)
Свобода перемещения стала ценностью лишь в Новое время. В Средние века к ней относились довольно безразлично.
Допустим, звёзды можно зарабатывать ослиным трудом – и никак иначе. Что, в таком случае, лучше: остаться без звёзд или превратиться в осла?
Протестантство – марфианская ересь.
На определённой стадии духовности человек отказывается не только от деятельности, но и от созерцания.
Разговор европейцев – не диалог, а два монолога.
Мой путь не мечен следами. Значит ли это, что его не было? Пожалуй, что и не было.
Пусть лучше один голос говорит о разном, чем разные голоса – об одном и том же.
(о радио)
Действительность – лишь одна из сфер человеческой духовности.
Европу погубило многословие – сначала Гомера, затем Сократа. Отвратив от себя музыку, оно подменило её словом. Даже перевод Евангелия намеренно неточен: В начале было Слово…
Человек – мелкая рыбёшка, которую со всех сторон улавливают сети всевозможных организаций (государство, армия, партия, оппозиция, церковь и т.д.). Наше время – время организованной охоты на человека.
Хихикающие скептики не менее утомительны, чем хихикающие девицы: утомляет однообразие их реакций на многообразие мира: Хи-хи-с!
Строй музыкальный выстраивает строй людской.
Тотальность в политике отвратила нас от любой тотальности (в музыке, религии, духовности) и приучила повсюду оставлять запасные ходы и лазейки.
Ясно вижу, что и одного языка – много!
Когда-то за человеком охотился человек, и это было человечно. Нынче за ним охотятся системы, структуры, функции, механизмы… – и это ужасно! и это невыносимо!
Александр Македонский был учеником Аристотеля: кто из варваров смог устоять перед логикой, умноженной на войско?
Миф – корень и узел бытия. Никакое житие – в силу своей историчности – с мифом сравниться не может. Но есть в житии та теплота и мягкость, которые в мифе отсутствуют.
Мысли мои подобны лёгким облачкам в небе: ветер их несёт, несёт… и уносит.
Как трудно умничать и интимничать с глухим человеком!
Люди охотно преувеличивают свои несчастья и очень редко – радости.
Лучшая мысль внезапна: «прострел в мозгу».
Время и есть, собственно, жизнь; пространство – лишь её обрамление, сцена, декорация…
Есть книги, которые читать на свежем воздухе просто невозможно.
Жить с людьми (в обществе) – всё равно что ехать в переполненном трамвае: все возбуждены, усталы, недовольны… стоит чуть повернуться, как наступишь кому-нибудь на ногу (или тебе наступят).
Основное занятие европейцев – поиски виновных и их наказание. Только виновные всё время разные: дьявол, природа, цивилизация, Бог, нация, класс, сам человек… Европа – огромный детективный роман.
Порой мысль приходит мне в голову лишь потому, что она «графична».
Странная вещь: разумом готов принять Бога, а вот «нутром» не принимаю. Казалось бы, должно быть наоборот.
Европейцы любят не столько обнажённое тело, сколько тело обнажающееся.
(о стриптизе)
Не только в языке бывает плохое произношение, но и в мышлении.
Остроумие (как и смех) – явление социальное. Одинокий человек не смеётся (разве что «по старой привычке»); его обычные спутники: спокойствие, страх, надежда. Олимпийцы смеялись, Христос плакал.
Зло первично, но добро божественно!
Узнай я вдруг и наверняка, что душа моя бессмертна, многое ли бы изменилось в моей жизни? Пожалуй, ничего.
Что делать людям неталантливым? Как жить!?
История тогда становится органичной и целеустремлённой, когда народ и правительство меньше всего о ней заботятся.
Жизнь, в конченом итоге, есть полное отсутствие всяких итогов.
Слово – память о «засловном»; цифра (за редким исключением) беспамятна.
Звёздное небо – первообраз незыблемого миропорядка. По этому образцу и строились царства. Неудивительно, что Кант увидел в звёздном небе прообраз своего «морального императива».
Всё чаще и чаще хочется махнуть на всё рукой – и жить «как попало»!
Подобно увеличительному стеклу, собирает человек свой дух «в точку» – и, обретая подлинную веру, воспламеняет мир.
Видение Богородицы есть видение собственной религиозности.
С горечью думаю порой: для того ли я родился, чтобы стать математиком (социологом, переводчиком, писателем)? Неужели для этого? Как-то не верится – и становится смешно и страшно.
Грек борется с греком (гимнасты); иудей – с Богом (Иаков).
Я – ничто, зато я – сам.
История тогда делается хорошо, когда о ней меньше всего думают.
Гениальность, как принято считать, – высший дар, и вряд ли найдётся человек, способный ей пренебречь. Отказ от гениальности – путь к святости, к безумию. Поступки Паскаля и Рембо таинственны, величественны, невероятны.
Глядя на распятие, оплачем то убиенное дерево, из которого оно было сделано.
Большое число – стая всепожирающей саранчи. В стаю саранчи превратилось и наше общество.
Кто может всё осмеять и всё оплакать, тот редко смеётся и редко плачет.
За одну мысль держусь крепко, две – еле удерживаю, три – валятся из головы.
Человек в этом мире – гусеница на листе: лист видит, а дерево – нет.
Каждому пожелаю обрести Бога, но как они горды, обретшие Бога; как невыносимы в своём непонимании других; как простодушны в своих благочестивых советах!
Свободная воля – бесплатное приложение к нашему абсолютному детерминизму.
Формы диалога: полемика (Европа), поучение (Индия), беседа (Китай), двойная исповедь (Россия).
Люди глядят на мир глазами своих профессий.
Как-то неловко писать книгу толще 200 страниц.
Нет Бога, так был бы хоть дьявол. Так и дьявола нет!
Государство откармливает учёных, как Полифем откармливал Одиссея со спутниками. Сумею ли я, подобно Одиссею, ускользнуть от мерзкого людоеда, упрятавшись в какую-нибудь шкуру? Или жив до сих пор лишь потому, что не пришла моя очередь? Гомеров Полифем хотя бы слеп был, а нынешний – зряч, да ещё и стоглаз!
Смешно надеяться, что отражению в зеркале удастся нас пережить.
Бог где-то рядом: не вижу Его, не слышу, но чувствую (дыханием?) – рядом.
2 x 2 = 4. Не понимаю (хотя раньше понимал): смешно это или идиотично, очевидно или очень глубоко? Скорее всего, 2 x 2 = 4 мне совершенно безразлично.
Мы узнаём о своей свободной воле лишь для того, чтобы оплакать её отсутствие.
У Европы был Христос, было христианство, а христиан почти не было.
Люди – столь бездарные актёры, что и Бог, и дьявол давно покинули «мировой театр», не досмотрев пьесы до конца.
Слова мои так относятся к мыслям, как облако, высеченное в граните, – к облаку в небе.
Человеку не столько Бог нужен, сколько зритель. Неловко как-то играть в пустом зале.
Если, не впадая в глупость, ты окажешься чуть глупее собеседника, он лишь поблагодарит тебя за это.
Не сравню свой дух с «парящим орлом», но что-то птичье в нем, несомненно, есть. Подобен он, пожалуй, мелкому и неугомонному воробью, который прыгает там и сям, порхает, клюёт что-то, чирикает, купается в грязной лужице…
Темнота – ослепший свет.
Современность порождает авантюристов. Лишь авантюра даёт в наше время какой-то шанс вырваться «из всего этого».
В метафоре вещи совокупляются, а сводник – поэт!
Деревья многому способны научить человека.
Дело не в том, что «жизнь – игра», а в том, что нас принуждают играть в игры, к которым у нас нет ни малейшего желания.
Ах, если бы всё оказалось вдруг сном, морокой, наваждением… и если бы проснуться однажды утром, а вокруг ничего!
Грибница ли – часть гриба, или гриб – часть грибницы? Что внутреннее во мне и что внешнее? Не есть ли душа моя – внешность, а мир вокруг – моё нутро?
Каждый врастает в другого, прорастает сквозь него и из него вырастает.
Море не исчерпать ложкой, но не исчерпать ложкой и мельчайшей капельки, искрящейся в трещине камня. Величие великого очевидно, труднее постичь величие ничтожного.
Греки приучили нас мыслить словами.
В познавании словом скрыта какая-то ожесточённость и злоба; в узнавании слова: восхищение и очарование.
Мне по душе молодые идеалисты, но всегда хочется заглянуть лет на 10-15 вперёд: что-то с ними станет? И сразу становится грустно.
Пишу: мы – оказывается: я. Пишу: я – оказывается: мы. Читатель же, встречая «мы», думает: я; встречая «я», думает: он!
С деньгами люди знают, что делать, а со временем – не знают. И я не знаю. Но всё же: время мне очень нужно, «нужнее денег».
В жизни из дурного проистекает хорошее, из хорошего – дурное, и никогда не известно наперёд: когда, и как, и что, и в какой мере?
Не лишайте человека неожиданного!
Анекдот – труднейший литературный жанр.
Наука – современная форма аскезы.
Я – авантюрист, но (по складу характера, видно) авантюрист пассивный. И на авантюру согласен только тогда, когда её «устраивать» не надо.
Мысли мои подобны пене, взбитой чайной метёлочкой: хочу дать им отстояться, придать тяжеловесности, а они расходятся, растворяются, исчезают…
Во что я верю? В то, что без Бога «ничего не получится». На самого Бога веры уже не хватает.
Мы любим жизнь в той степени, в какой любим женщину.
Вся моя философия – лишь череда «остроумных» мыслей.
Нет большей опасности, чем неукоснительно следовать своему жизненному плану. И в этом же – высшая благодать.
Индия – настоящий океан, без дна, без края… «Индийский океан». Побаиваюсь я его бездонности и бескрайности. Сердцу моему ближе прозрачный ручей, с камушками на дне, с рыбами и водорослями в быстром течении…
Останься дома, останься дома, останься дома!
Не знаю, как жить без Бога, и всё же живу. А может быть, не живу?
Как музыка первична и предшествует мифологии, так и поэзия предшествует прозе и порождает её из себя.
Реакция грека на врага: на сильного – страх, на равного – схватка, на слабого – смех. Трагедия, эпос, комедия.
Подлинно верующему Бог не нужен.
Привыкнув видеть в детях «наше будущее», мы забываем, что в них – наше прошлое.
Мысль, переданная точно, удваивает рассказчика в слушателе, и, следовательно, совершенно бесполезна. Неточная мысль то и дело провоцирует новые мысли, переживания, понимание. Всё зависит от того, чего нам хочется: подчинить слушателя или побудить его к мышлению?
Сомнение следует в первую очередь обратить против себя.
Без Бога я – остолбенелый. Так и живу столбом. «Жена Лота».
Плохие книги острят мысль, хорошие – сглаживают.
Мещанина (и крестьянина) ругают за то, что «идеей (т.е. книжкой) его не прошибёшь». Но что же здесь плохого: значит, есть своя жизнь, свои представления, свои корни. «Книги не нужны».
Девиз европейца: всё, что можно сделать, сделать необходимо.
Жизнь моя – строительные леса вокруг дома, которого из-за лесов и не видно. Не знаю, есть ли он вообще или одни только строительные леса?
Нет ничего важнее и нужнее закона: это признают и подчиняющиеся ему, и его нарушающие. «Спасибо ему, позволяет нам жить».
«Разнузданный» дух много обещает, но ничего не исполняет.
Собственность в литературе – буржуазное изобретение. Буржуазия придумала «цитатные кавычки», чтобы своё отличать от чужого.
Благодатно нищенство: нищему не опасны журналы мод.
Всё чужое – моё; всё моё – чужое.
Созерцая формы вокруг, я благодарен им за то, что они есть: сам я не способен ни изобрести их, ни даже, пожалуй, воспроизвести.
Пора начать новую безымянность.
Под тонкой кожицей политических и исторических событий неведомо и полно пульсирует «кровь брахманическая». Этот пульс и определяет фазы и циклы человеческого существования.
Проживи незаметно: пусть тебя видят не люди, а звёзды.
Без Бога «всё дозволено». Даже Бог дозволен.
Ничего не зная, вот сколько пишу. Что же будет, когда что-нибудь «узнаю»?
Изучать чужую философию – портить свою душу.
Здоровье – патологическое отклонение от болезни.
Лень дописать, лень додумать, лень дожить…
Плохая память тем хороша, что не навязывает человеку старых впечатлений, представлений, фиксаций…
Бог мой – мрак мой.
Жить без зеркал.
Ультра-западник: даже «свет с Востока» приходит к нему с Запада!
Чем меньше вокруг меня, тем больше во мне.
Глаза – занавешенные окна в доме души: что видно в них? – свет лампы, неясные тени, внезапная темнота… что еще? Дом обитаем, в нём живут, но чем, кто – не знаю.
Величайшая страсть европейца, глубочайшее его желание: заполнить собой весь мир и отвергнуть в нём всё, что не есть он. Мечта о мире, составленном из его двойников.
Жизнь внезапна.
Национальные языки существуют не только в литературе, но и в музыке, живописи и т.д. Почему же перевод ограничивают только литературой?
Пусть в каждом доме детей будет больше, чем книг.
Хрупок дух, но и плоть хрупка не менее. Человек умирает, душа умирает, твердыня же одна: звёздное небо над головой.
Мои современники сидят в моей глотке, говорят моим голосом… Проклятье! Как от них избавиться?
А не был ли первозвук – первозапахом?
Католицизм скорее запугивает человека, чем доподлинно жесток к нему.
Пишу, казалось бы, о многом, а всё – об одном!
Философия – игра во всеобщность, существование и отрицание.
Человек – существо уставшее.
Мир мигает (т.е. живёт), и, мигая в такт ему, я вижу или сплошной свет, или одну темноту. Но в глаза широко раскрытые и неподвижные врывается само дыхание мира, его биение и сумятица.
Говорит ли мне Бог? – не слышу Его. Сам когда говорю, слышит ли Он меня?
Индуизм есть школа свободы.
Что может быть прискорбнее, чем «воплощать собой эпоху»? Ничуть не лучше, чем «модно одеваться».
Люблю свободу, но и бочку не встречал ещё без обручей.
И вот где-то кто-то как-то живёт… Как удивительно! как грустно! как ужасно!
1974